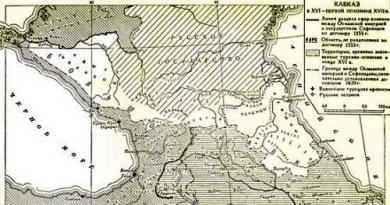Политические и правовые идеи средневековых ересей. Исследование социально-политического аспекта еретических движений эпохи средневековья Еретические движения средневековья
Вопрос об истинности того или иного толкования Священного писания решает церковный собор. В случае, если последователи учения, признанного собором ложным, не отрекаются от него, они считаются еретиками и изгоняются из лона церкви. Возникновение еретических движений в христианстве относится к первым векам его существования.
Еретики не пытались менять текст Священного писания, они лишь трактовали его иначе, чем это было принято официальной церковью. Текстов, принадлежащих самим еретикам, сохранилось крайне мало: они тщательно уничтожались их преследователями, а зачастую и просто не записывались. Главным источником для изучения взглядов еретиков оказываются послания их обличителей и решения церковных соборов, их осудивших. В Древней Руси первые еретические учения появляются в начале XIV в. Самое мощное из них - ересь стригольников. Значение этого термина не выяснено. Одни исследователи считают, что ересь получила свое название от стригалей шерсти, другие - что у стригольников существовал особый обряд пострижения (посвящения), если учесть, что среди стригольников было немало низших церковнослужителей, которые крайне негативно относились к священникам и сами претендовали на проведение службы.
О ереси стригольников, возникшей сначала в Пскове в первой половине XIV в., а потом перекинувшейся и в Новгород, известно из посланий митрополита Фотия и константинопольского патриарха Нила. Сохранилась также запись в летописи о казни в 1375 г. трех стригольников в Новгороде, имена двух из них - дьякон Микита и дьякон Карп. Они обличали церковную иерархию за нетрудовые доходы, мздоимство и безнравственность и поэтому отрицали истинность таинств причастия и исповедь, полагая, что безнравственные священники не могут быть носителями «божественной благодати». В ереси стригольников отразилось стремление части горожан к «дешевой церкви». Кроме того, ими подвергалась сомнению истинность представлений о загробной жизни. В результате преследований со стороны церкви и государства ересь стригольников в XV в. исчезает. Если о богословской стороне этой ереси известно очень мало и в ней четко прослеживается лишь обращение к раннехристианскому аскетическому идеалу, то об учении так называемых жидовствующих, или новгородско-московской ереси XV в., можно сказать уже больше.
Все еретические учения очень условно можно разделить на два вида - антитрини-тарные, т. е. неортодоксально трактующие проблему соотношения трех ипостасей Троицы, и христологические - толкующие соотношения божественного и человеческого начал в Иисусе Христе. При такой классификации новгородско-московская ересь может быть отнесена к числу антитринитарных. Ее проповедники отрицали догмат троичности как противоречащий догмату о единобожии, критикуя, таким образом, один из христианских догматов с точки зрения наивного рационализма. По свидетельству одного из самых активных обличителей ересей, Иосифа Волоцкого, в еретичество этих людей свел еврей («жидовин») Схария, приехавший в Новгород из Литвы. «Открыл» ересь новгородский архиепископ Геннадий. Начавшиеся преследования побудили вождей движения - попа Алексея и Наума перебраться в Москву, где в середине 80-х гг. XV в. образовался московский кружок еретиков. Но если в Новгороде ересь распространилась среди рядовых священников и клирошан, то в Москве ересь привлекла великокняжеских чиновников и купцов. К этому кружку первоначально благоволили Иван III и его сноха Елена Волошанка. Еретики интересовались сочинениями, трактующими вопросы логики, астрономии, грамматики. Предметом особой дискуссии оказался вопрос о конце света, который на Руси ожидали в 1492 г. от Рождества Христова (семитысячном от сотворения мира). Вера в возможный конец света была столь велика, что даже Пасхалия (календарь празднования Пасхи) была рассчитана только до 1492 г. Еретики же утверждали, что конца света в этом году не будет, высказывая сомнения в его возможности вообще. Важным положением в учении московских еретиков было представление о свободе человеческой воли. «Лаодикийское послание» дьяка Федора Курицына начинается словами: «Душа самовластна - заграда (ограда) ей вера».
Со стригольниками жидовствующих роднило отрицание церковной иерархии, но московские еретики критиковали и институт монашества, считая его человеческим, а не Божественным преданием. Собор 1490 г. осудил часть еретиков, их отправили в Новгород, где архиепископ Геннадий, следуя примеру испанской инквизиции, подверг их подобию аутодафе: их провели по городу в дурацких берестяных колпаках, которые у них на головах и сожгли, с надписью на груди «Сатанинское воинство», после чего били плетьми и отправили в заточение по монастырям. Московский кружок в это время уцелел и был осужден собором в 1504 г., по его приговору трое еретиков - Иван Волк Курицын (Федор Курицын к тому времени умер), Митя Коноплев и Иван Максимов - были в деревянных клетях сожжены на льду Москвы-реки.
Новый этап в истории русских ересей начинается в середине XVI в., когда стало известно о еретических взглядах дворянского сына Матвея Башкина и беглого холопа Феодосия Косого. Ересь Матвея «обнаружил» дьяк Посольского приказа Иван Висковатый, который, вероятно, в тот момент намеревался уничтожить не столько Матвея, сколько священника Благовещенского собора Кремля Сильвестра, участника так называемой «Избранной рады», который о взглядах Башкина знал. Однако Сильвестр сумел оправдаться, а Матвея Башкина, доведшего принцип христианского равенства людей пред Богом до равенства социального (он уничтожил кабальные записи своих холопов), отправили в заточение в Волоколамский монастырь. На соборах 1553-1556 гг. осуждалась ересь не только М. Башкина, но и Феодосия Косого, который в 40-е гг. XVI в. бежал в Заволжье и там начал проповедовать свое «новое учение». В богословском плане ересь Феодосия может быть отнесена к числу христологических, поскольку он настаивал на том, что Иисус Христос - человек, принесший миру истинное учение. То была одна из самых радикальных русских средневековых ересей, которую многое роднит с протестантизмом. Не случайно в Литве, куда Феодосию и части его последователей удалось бежать, она была воспринята как одна из крайне протестантских. Отрицая не только церковную иерархию, но и всякую иерархию вообще и не признавая церковного представления об искупительной жертве Христа, он учил добиваться истины на земле «разумом и мужеством». Косой не верил в святость и чудеса, призывал не поклоняться иконам и мощам, считал монашеский идеал заблуждением. Реформаторские призывы Феодосия Косого нашли отклик у простого народа и привели к возникновению феодосианских общин, построенных на принципах раннехристианского социального равенства.
Средневековые ереси расшатывали устои церкви, сеяли зерна сомнения у прихожан в истинности вероучения, за что еретики вызывали ненависть у воинствующих деятелей официальной церкви.
Идеологическое господство религии и католической церкви не было абсолютным. Наряду с теократическими теориями, которые обосновывали незыблемость существующих сословно-феодальных порядков и претензии Церкви на светскую власть, существовали концепции, которые признавали основные формулы вероучения (догматы) христианства, но толковали их иначе, чем господствующая церковь. Религиозные учения, оппозиционные либо прямо враждебные официальному вероучению, назывались ересью.
В XI–XIII вв. по всей Европе прокатилась первая волна еретических движений, серьезно пошатнувших веру в святость и незыблемость сословно-феодальных устоев. Еретики считали себя истинными христианами и выступали прежде всего против духовенства и Церкви, которая, по их мнению, извратила подлинное учение Христа. Римско-католическая церковь, в свою очередь, обвиняла еретиков в неправильном толковании текстов Священного Писания, в заимствовании идей посторонних религий или в повторении еретических идей, уже осужденных церковными соборами.
Степень оппозиционности католичеству была различной, что позволяет выделить три вида ересей:
- 1) ереси, носившие преимущественно богословский характер, которые не касались общественно-политических проблем. Однако, получив широкое распространение, они становились опасными для авторитета господствующей Церкви, которая искала и находила себе поддержку светской власти в истреблении инаковерующих;
- 2) оппозиционные учения, не только иначе толкующие вероучение, но и критикующие церковную организацию. Эти ереси, взывая к текстам Нового Завета, обвиняли духовенство в отступлении от апостольских правил, в корыстолюбии, тунеядстве, в непомерной гордыне и высокомерии, в пренебрежении заповедям Христа;
- 3) политически ориентированные религиозные учения. Такие еретические учения и движения, носившие антифеодальный характер, осуждали не только церковь, но и крепостничество, дворянские привилегии, государство и право. Они выражали интересы и чаяния крепостных крестьян, городских низов, ремесленников-торговцев, протестовавших против крестьянско-плебейского усиления феодального гнета.
В зависимости от социальной базы и характера требований политически ориентированные ереси можно условно разделить на радикальные (плебейско-крестьянские) и умеренные (бюргерские).
Радикальные (плебейско-крестьянские ереси)
Плебейско-крестьянские ереси акцентировали внимание на том, ч то Священному Писанию противоречат богатое убранство церкви; сословное неравенство; крепостное право; дворянские привилегии; войны, суды, клятвы. Они отвергали существующий социальный порядок как противоречащий идее первоначального равенства, отраженной в раннем христианстве, и на этой основе выступали против феодального государства и права, защищавших этот феодальный строй.
Исторически первая радикальная ересь в Европе – богомильство в Болгарии (X–XIII вв.). Его зарождение было обусловлено процессом ускоренного обезземеливания крестьян и превращения их в крепостных, дополнявшийся усилением социального и национального гнета, вызванного нахождением Болгарии под властью Византийской империи.
Богомилы подвергали сомнению богоугодность неравенства, нищеты и эксплуатации. Они отрицали собственность, осуждали наживу, выступали против неравенства и богатства, которые противоречат христианской религии. Богатство богомилы отождествляли с дьяволом (злым богом).
На этом основана их критика римско-католической церкви за служение дьяволу, т.е. богатству: "никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть.
Не могут служить Богу и маммоне (богатству)". В служении дьяволу богомилы обвиняли быстро богатевшую церковь и духовенство, погрязшее в пороке. Пышную обрядность и иерархическую структуру церкви они отрицали на том основании, что "это не написано в Евангелии, а установлено людьми". Из всех обрядов богомилы признавали только посты, взаимную исповедь и молитву "Отче наш". Они предрекали страшный суд миру зла, насилия, эксплуатации и богатства: "Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон". Их идеалом социального порядка была раннехристианская организация общин, основанных на равенстве и общности труда. Связь между общинами осуществляли апостолы.
Богомильство оказало существенное влияние на развитие еретического движения в Западной Европе. В первую очередь оно имело распространение на юге Франции и севере Италии, где имели успех ереси альбигойцев, катаров, патаренов.
Для искоренения ереси Римские Папы организовали ряд крестовых походов (альбигойские войны), учредили инквизицию и воинствующие ордена (доминиканцев и францисканцев). Одновременно с учреждением инквизиции Римский Папа Иннокентий III повелел уничтожить все книги Священного Писания, переведенные на народный язык. Затем (1231 г.) мирянам вообще было запрещено читать Библию.
Новый всплеск еретического движения произошел в XIV– XV вв. Он осуществлялся на идее "Царствия Божьего" и Возвышенного в "Откровении Иоанна" (Апокалипсисе), вытеснив первоначальный тезис о "двух богах" (добром и злом, т.е. дьяволе). Примерами крестьянско-плебейской ереси являлись движение лоллардов (нищенствующих монахов) в Англии и выступления таборитов в Чехии.
Лолларды требовали передачи земель крестьянским общинам и ликвидации крепостного гнета; они осуждали социальное неравенство на том основании, что Бог создал всех равными.
Табориты в Чехии выступали против католической церкви, отклонившейся от истинной веры и церковной иерархии. Одновременно ими был выдвинут ряд антифеодальных лозунгов – уничтожение привилегий как немецкого, так и чешского дворянства, ликвидация крепостного права и феодальных повинностей и т.д. Подобно ранним христианам, табориты надеялись, что наступит "тысячелетнее царство", в котором все будут равны и совместно будут решать общие дела, не будет богатых и бедных, собственности и государства.
Однако оба этих движения были разгромлены, хотя и оказали влияние в дальнейшем на Реформацию в Германии, особенно табориты, и стали частью идеологии раннебуржуазных революций.
Умеренные (бюргерские ереси)
Бюргерские ереси выражали интересы зажиточных горожан, которые были лишены политических прав. Они осуждали иерархическую организацию Церкви, ее богатства, которые несовместимы с заветами Христа и апостолов, считали, что многочисленные обряды и службы не имеют обоснования в Новом Завете, полагали, что церковь отклонилась от истинной веры и нуждается в преобразовании. Поэтому основным их политическим требованием стало требование "дешевой церкви", означавшее установку на упразднение сословия священников, ликвидацию их привилегий и богатства, возврат к простому строю раннехристианской церкви.
Примером бюргерской ереси является учение профессора Оксфордского университета (Англия) Джона Уиклифа (1324– 1384), выступившего в конце XIV в. против зависимости английской церкви от папской курии и вмешательства Церкви в дела государства. Он оспаривал принцип непогрешимости Пап. Уиклиф осуждал церковную иерархию и церковное богатство, утверждая, что они противоречат Писанию. Однако его политическая программа содержала требования сохранения частной собственности и сословного неравенства как принципов, угодных Богу.
Другой разновидностью бюргерской ереси являлось учение чешского теолога Яна Гуса (1371–1415). Он стоял у истоков Реформации в Чехии, ратовал за признание самостоятельности чешской церкви. Как последователь Дж. Уиклифа, Ян Гус выступал против привилегий духовенства, за отмену церковной десятины, неправедно нажитого церковью богатства, за лишение Церкви светской власти.
История возникновения ересей, их идейная и социальная сущность
"Ересью" в христианстве называли направление мысли, отрицающее некоторое определенное вероучительное положение католической веры (догмата), уклонение от учения церкви, которая есть "столп и утверждение Истины", уклонение от ортодоксии. В последнем смысле термин "ересь" употребляется в современной культуре и в нехристианском контексте. Для еретичествующих характерен оттенок горделивого усвоения своему личному, субъективному мнению значения абсолютной, объективной истины и вытекающее отсюда стремление к самовозвышению и обособлению.
Само слово "ересь" греческого происхождения (hairesis) и первоначально означало - отбор, выбор. На языке церковной догматики ересь означает сознательное и преднамеренное уклонение от ясно выраженного догмата христианской веры и вместе с тем - выделение из состава церкви нового общества.
По словам Мартина Лютера, "ересь это еще и духовная субстанция, которую нельзя разбить железом, сжечь огнем или утопить". Как-то пыталась сделать Церковь, стремясь искоренить ереси.
Однако если попытаться разобраться в сути понятия "ересь", то очевидным становится тот факт, что ересь - главным образом является формой свободомыслия. Любое свободомыслие в религии предполагает какое-то свое особенное отношение к Богу. Обычно выделяют три возможных отношения к Богу:
Во-первых: полная уверенность в том, что Бог есть - это верующие. Во-вторых: сомнение в том, есть ли Бог - агностики ("незнающие"). В-третьих: абсолютная уверенность в том, что Бога нет - атеисты.
Основными историческими формулами свободомыслия является скептицизм, антиклерикализм, индифферентизм, нигилизм, пантеизм, деизм, атеизм. Последнее является предельной разновидностью так называемого свободомыслия и противоположностью теизма. Под свободомыслием понимается вольнодумство, отрицание церковного устроения, отстаивание полной несовместимости разума и веры.
В средние века распространителями свободомыслия являлись ереси. Впрочем, это не означает, что еретики являлись атеистами, поскольку в то время богословские представления были единственными и абсолютными. Мировоззрение средневекового человека было религиозным и оставалось им, даже если человек становился еретиком.
Характеристики термина "ересь" не исчерпываются и не сводятся лишь к глубокому и многогранному понятию свободомыслия. Существует еще множество оттенков, которые вызревали эволюционно во времени. Так употреблявшийся христианскими авторами по отношению к гностическим учениям термин "ересь", затем распространяется на любую концепцию, отклоняющуюся от ортодоксии. Еще одно значение этого термина - обозначение философских направлений и школ. В этом смысле Диоген Лаэртский говорит о "ереси академиков". Со времени гностицизма ересь стала определяться как что-то низкое, недостойное, в современном смысле слова.
В связи с этим ересь следует отличать:
1). От раскола, который также означает обособление от состава церковного общества верующих, но вследствие не подчинения данному иерархическому авторитету по разногласию, действительному или мнимому, в обрядовом учении.
2). От непреднамеренных ошибок в догматическом учении, происшедших из-за того, что тот или другой вопрос самой церковью не был в данное время предусмотрен и решен. Такие ошибочные мнения встречаются нередко, притом у многих авторитетных учителей и даже отцов Церкви (например, у Дионисия Александрийского, особенно у Оригена) в первые три века христианства, когда имела место большая свобода мнений в области богословия, а истины церковного учения не были еще сформулированы в символах и подробных вероизложениях вселенских и поместных соборов.
Также следует отличать понятия "ересь" и "секта". Между ними та разница, что первым словом обозначается не столько совокупность лиц, следующих известному учению, сколько содержание самого учения. Поэтому можно сказать: " секта ариан состояла из таких-то лиц" и " секта ариан учила, что божий сын сотворен", и с другой стороны: "ересь ариан состояла в признании Сына Божия тварью", "ереси арианской следовали или держались такие-то лица".
Указанное разграничение терминов установилось, и то не совсем прочно, лишь в новое время (после реформации) и отсюда перенесено на древнейшие эпохи, когда слова "секта" и "ересь" употреблялись вполне как синонимы. Это же обстоятельство придало слову "секта" еще один побочный оттенок, сравнительно с понятием и словом "ересь". Дело в том, что главнейшие ереси с I по VII века начинались не с отрицания церковного учения и авторитета, а с попыток выяснить и сформулировать какой-либо пункт учения, не отлившийся еще в твердую догматическую формулу. Инициаторы этих ересей не сознавали себя в оппозиции с непрерывным церковным приданием, а напротив, считали себя выразителями и продолжателями его. Подвергшись соборному суду и осуждению, они и их последователи или подчинялись этому суду, или разрывали общение с церковью. При этом, поставив уже в одном пункте учения свою мысль выше мысли церковной, они, чем далее, тем смелее отрешались от церковного авторитета как в развитии своего только что осужденного догмата, так затем и в других пунктах, которые давно уже были сформулированы церковью.
Между тем свободные мыслители более поздних времен, особенно начиная с Реформации, имели дело с уже подробно развитым, сформированным и надлежащим авторизованным церковным учением, и касались этого учения в целом и в основах, а не по какому либо пункту. Таким образом, они оказывались по отношению к нему прямо в таком положении, в какое древние ереси приходили лишь в указанной второй своей стадии. Поэтому и слово секта, применяемое преимущественно к разномыслящим с церковью общинам средних веков и еще более новых времен, к другим ересям может всего удобнее применяться именно на второй ступени их развития - то есть к тем толкам, на которые они дробились уже по выделению из церкви. Так, например, редко говорят о секте монофизитов (хотя и это словоупотребление нельзя назвать неправильным), но постоянно говорят о монофизитских сектах (фтартолатрах, агноэтах, колианистах, северианах и т.д.). По той же причине вообще со словом секта привычно соединяется представление об общине, резко расходящейся с церковью, чем с понятием ереси и еретической общины.
Тем не менее, в литературе посвященной ересям, как правило, употребляются оба термина, поскольку они находятся в единой смысловой связке. В качестве примера можно вспомнить определение слова "ересь", какое ему давал Гоббс: "ересь - греческое слово, обозначающее учение какой-нибудь секты. Секта - это группа людей, следующих в науке одному учителю, избранному ими по собственному усмотрению. Секта называется так от глагола "следовать" (sequi), ересь же - от глагола "выбирать" (eligere). Так же Гоббс считал, что для определения ереси совершенно не имеют никакого значения слова - "истина" и "заблуждение": "ведь ересь обозначает только высказанное суждение, правильно ли оно или ложно, законно ли оно или противоречит закону".
Однако в религиозной сфере ересь как выбор считается явлением предосудительным. Этим термином подчеркивается субъективность, превратность учения, выбранного в отличии, а иногда ради отличия от других. Уже во II веке появляется сочинение Иринея Лионского "Против ересей", несколько позже сочинение Тертуллиана "О проскрипции (против) еретиков". Борьба против ересей стала главной задачей обличительной деятельности церковных идеологов с IV века.
Лактанций сравнивал ереси с лужами и болотами, не имеющими протока. Он постарался разъяснить причины ересей. Это - нетвердость в вере, недостаточное знание Писания, властолюбие, неспособность возразить врагам христианства, обольщение ложными пророками. В понятие "ересь" в этот период и тысячелетие спустя чаще всего будет включаться и безбожие. Ересь оказывается ограничением полноты, чрезмерное преувеличение частного положения до размеров всеобщего и исключительного, произвольное избрание чего-то одного, части вместо целого, т.е. односторонность.
В независимости от того, каким путем возникли ереси, можно выделить три их вида. Во-первых, есть прямые ереси - утверждения, находящиеся в одном контексте и выносящие противоречащие догме суждения об одном предмете. Во-вторых, есть ереси "заблудившиеся" - когда по каким то причинам некое суждение само по себе или правильное, или религиозно безразличное выпадает из своего контекста и заносится в контекст богословский. Третий вид - "арифметические ереси", отличающие частную правду, но воинственно не желающие видеть нечто большее. Здесь часть принимается за целое.
Если же брать во внимание идейную основу ересей, то все еретические движения условно можно разделить на два вида:
1. антитринитарные - учения неортодоксально трактующие проблему соотношения трех ипостасей Троицы.
2. христологические - учения толкующие соотношение божественного и человеческого начал в Иисусе Христе.
Однако как отмечалось выше это условное деление и в их исходной идейной основе помимо антитринитаризма и христологизма можно выделить более точно их характеризующие дуализм (павликианство, богомильство, альбигойская ересь и прочее), мистический пантеизм (альмарикане), мистический хилиазм (иохамиты) и другое. Спектр идей, как мы видим, был весьма широк. Свободомыслие некоторых мыслителей доводило их в своих собственных рассуждениях до признания вечности и несотворенности материи (Давид Дианский), извечности мира (Феодосий Косой). На базе указанных принципов отрицались ортодоксальное учение о Троице, Христе, боговоплощении, искуплении, спасении, греховности. Отвергались культурные таинства, "святость" церкви, монашество, институт духовенства, земной мир объявлялся царством зла, дьявола, антихриста.
Интересно, что попытки классифицировать еретиков были предприняты уже в средневековье. Средневековые источники указывают, что существует "очень много…категорий еретиков". Но из них выделяются две самые главные. Первая категория - это те, "кто верует, но его верования расходятся с подлинной верой". Вторая категория - те, "кто вообще не верует, очень негодные люди, думающие, что душа умирает вместе с телом и что не за добро, ни за зло, которое человек делает в этом мире, он не получит ни награды ни наказания".
Становление и распространение раннехристианских ересей и ересей раннего средневековьяЕреси прослеживаются в истории христианства начиная с первых шагов этой религии. Нестроения и отступления от апостольского предания в христианских общинах было от начала.
Понятие "ересь" появляется в "Новом завете" в позднейших книгах. Отчего отцы церкви настаивали, что ересь не могла возникнуть прежде истинного учения, которое предуведомило об их возникновении и советовало избегать их. "Сказано было церкви: "Если бы ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема" (Галл., 1: 8)" . Второе письмо Петра говорит: "но были и ложные пророки, так и сейчас среди вас появятся ложные учителя. Они будут тайно насаждать всевозможные ереси, ведущие к погибели". Апокалипсис прямо упоминает ереси "николаитов": "однако ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов, я тоже ненавижу это учение". Апостол Павел в первом послании к коринфянам осуждает еретиков, отвергающих воскресенье или ставящих его под сомнение: это было заблуждение саддукеев, принятое от части Маркионом, Валентином, Апеллесом и другими, отвергающими воскресение тела.
Попытки объяснить причины появления ересей также так же предпринимались от начала. Но объяснения эти были вполне в духе того времени и сводились в целом к словесной формуле фанатичного апологета христианства Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана: "Если бы кому угодно было спросить, кто возбуждает и внушает ереси, я бы ответил: дьявол, который ставит своим долгом извращать истину и всячески старается в мистериях ложных богов подражать святым обрядам христианской религии".
Используя научный подход можно выделить следующие причины появления раннехристанских ересей:
1). Нежелание иудеев и язычников, а также последователей восточного дуализма, принявших христианство, окончательно расстаться со своим прежним религиозным и философским мировоззрением и стремление скомпилировать в одно целое старые доктрины с новыми христианскими. Смешение восточного дуализма с христианством произвело манихейство, ересь Вардесана, монтанизм, мессалианство и многие другие секты, в несколько изменившимся виде существовавшие даже в новой европейской истории (вальденсы, богомилы и др.). Из смешения с христианством древнего иудаизма возникли самые первые по времени секты, с которыми боролись еще апостолы и отцы церкви II и III в. в.; из стремления скомпилировать в одно целое наиболее отвлеченные доктрины христианства (учение о Боге Слове) с учением о Логосе платоников и неоплатоников получили свое начало рационалистические ереси III и IV веков (монархиане, субординационисты).
2). Стремление более сильных умов поставить христианское учение, данное как богооткровение, на один уровень с философскими и диалектическими методами последнего. Намерение у этих учителей было доброе, но по самой природе вещей неисполнимое, оно привело к рационализму, каковым и была напитана самая сильная ересь раннего средневековья - арианство с его разновидностями.
Заносчивость и самомнение философов, которые жили во времена апостолов, являлись причиной возникновения ересей в ранней церкви и, по мнению Гоббса. "Они были способны рассуждать тоньше, чем прочие люди, и более убедительно. Обращаясь в христианство, они почти неизбежно оказывались избранными в пресвитеры и епископы, дабы защищать и распространять веру. Но и ставши христианами, они, насколько возможно, сохраняли учение своих языческих наставников и поэтому старались толковать Священное писание, желая сохранить единство своей философии и христианской веры". "В ранней церкви, вплоть до Никейского собора, большинство догматов, вызывавших споры среди христиан, касалось учения о Троице, таинство которой, хотя и признававшееся всеми непознаваемыми, многие философы пытались объяснить каждый по-своему, опираясь на учение своих наставников. Отсюда сначала возникали споры, потом перебранка и, наконец, чтобы избежать возмущения и восстановить мир, были созваны соборы, причем не по указанию правителей, а по добровольному желанию епископов и пастырей. Это стало возможным тогда, когда прекратились преследования христиан. На этих соборах определили, как должен решаться вопрос о вере в спорных случаях. То, что принималось собором, считалось католической верой, то, что осуждалось, - ересью. Ведь собор по отношению к епископу или пастырю был католической церковью, т.е. всеобъемлющей, или всеобщей, как и вообще их мнение (opinio); отдельное же мнение любого священника считалось ересью. Именно отсюда происходит название католической церкви, и во всякой церкви католик и еретик являются именами соотносительными" .
3). Самобытное богословствование христианских учителей на основании Святого Писания и чистых начал разума, лишенное узаконенных церковью руководящих начал - церковного предания и общего голоса Вселенской Церкви.
Кроме указанных трех категорий учений-ересей, расколов, непреднамеренных ошибок церковных учителей, вне состава символического, общеобязательного для всех христиан учения церкви находятся еще т. н. частные, или личные мнения церковных учителей и отцов церкви о разных детальных вопросах христианского учения, которые церковь не авторизирует своим именем, но и не отрицает.
Однако следует признать, что вышеперечисленное при всей своей обоснованности не способно объяснить, почему чисто догматические разногласия с церковным учением выливались в мощные массовые движения, если оставить в стороне социальную подоплеку такого явления как еретические движения. Шествие христианства сопровождалось ожесточенной классовой борьбой, которая велась внутри христианских организаций, эксплуатацией масс верующих церковной иерархией, позднее с епископами во главе, кровавыми методами подавления протеста против церковников, становившихся уже в III в. крупной политической силой. Однако, даже оставаясь на почве богословских источников, можно проследить со II и III веков непрерывную линию классовой борьбы масс, уже одурманенных христианством, облекавшейся в религиозную форму ереси, между прочим, в попытке реорганизовать церковь, вернуть ей "первоначальную простоту".
Именно эта простота чаще всего и привлекала большие массы народа в секты, делала популярными идеи учителей-ересиархов. Тертуллиан, описывая поведение еретиков, отмечает какое оно "легкомысленное, мирское, обыденное". "Неизвестно, кто у них оглашенный, кто верный. …Так как по своим верованиям они расходятся друг с другом, то им все равно, все для них пригодно, лишь бы только побольше людей к ним присоединилось, чтобы торжествовать над истинной". Простота внутреннего устройства еретических сект, простота взаимоотношений еретичествующих - основные причины популярности сект, за исключением тех, которые отличались строгим аскетизмом, что и доказывает правильность вышесказанного. К тому же внутри еретической организации можно было быстро подняться в чинах: "нигде люди так быстро не повышаются в чинах, как в скопищах мятежников" и это не зависимо от социального статуса, "почему и нет или незаметно у них распрей".
Раннехристианский период отличается изобилием ересей. Уже Цельс упоминает ряд ересей пневматиков, психиков, сибилистов и другие: "Некоторые объявляют себя гностиками…некоторые, признавая Иисуса, желают вместе с ним жить по закону иудеев (эвиониты)". Упоминает Цельс так же маркионитов во главе которых стоял Маркион. Иероним в послании к Августину пишет, что существует ересь среди иудеев, которая называется минейской; "обычно их называют назареями". Кроме того, можно перечислить и такие ереси первого периода: керинфианство, элкезиатство, докитизм, манихейство, монтанизм, хилиазм. В учении о Троице возникли триадологические ереси, такие как монархианство, арианство, ереси евномиан, аномеев, евдоксиан, полуариан или духоборцев, савеллиан, фокиниан, аполинариан и т.д.
На многие из перечисленных ересей большое влияние оказал гностицизм. Первоначально именно гностиков именовали еретиками. Хотя считать гностицизм христианским учением вряд ли правомерно, в истории ересей - это важнейшая ее глава. Учение философских школ оказывали большое влияние на религиозные представления людей. Недаром Тертуллиан отмечал, что "философы и еретики рассуждают об одних и тех же предметах, путают себя одними и теми же вопросами".
Однако не следует думать, что гностицизм являлся реакцией античного мира на уже возникшее, совершенно новое явление (христианство) - именно такова точка зрения на гностицизм существовала еще в первые века христианской апологетики (например, у Климента Александрийского) и к которому были склонны и европейская, и российская наука в прошлом столетии. После находки гностической библиотеки в Наг-Хаммади (Египет), стало ясно, что гностическое мировоззрение имеет более самостоятельное значение. Хотя первым гностиком традиционно считается современник апостолов Симон Маг, нет сомнений, что истоки гностицизма исторически лежат там же, где и истоки христианства: в Палестине, точнее же - в иудаизме времен Рождества Христова. Протогностицизм имел иудейские корни. И если собственно иудаизм после событий I-II веков, после кровавых восстаний против римского господства, закрылся, вернулся к состоянию племенной религии, то христианство и гностицизм оказались широко распространенными именно благодаря идее надплеменного характера откровения Божества. Мимикрия гностицизма под христианство началась только во II столетии, однако точно так же в это время гностицизм принимает отдельные стороны античного философствования, египетской религии и зороастризма. В этом столетии граница между гностицизмом и христианством тонка, порой до неуловимости. Можно вспомнить, например, что катализатором процесса собирания Нового Завета стал гностик Маркион (а скорее христианин - "паулист", то есть признававший исключительный авторитет апостола Павла). Христианство самоопределяется в догматическом и церковном смысле именно во время полемики II столетия, причем принимает некоторые идеи, впервые высказанные гностиками.
Гностическое философствование зародилось весьма рано, шло рядом с победами собственно христианского вероучения, и, уже при императоре Адриане, в теории Сатурнина, ученика Менандра, успело сложиться в отчетливые формы. Непрерывная традиция связывает первых гностиков - Евфрата, Симона, Менандра, Керинфа и особенно сирийской школы Сатурнина, Кердона, Маркиона, египетского Василида - с теми катарами, против которых в XIII столетии Рим поднялся на бескомпромиссную войну. Василид объясняет загробную жизнь так, как объясняли ее некоторые альбигойцы: добрые души возвращаются к Богу, злые переселяются в создания низшие, тела же обращаются в первобытную материю. Прочие гностики прибавляют к этому целую самостоятельную космогонию, которая не могла не оказывать непосредственного влияния на историю позднейшего сектантства.
В эпоху, современную развитию гностицизма, появилось столько других самостоятельных теорий, сколько не производил никакой век ни до, ни после. Количество ересей увеличивалось удивительным образом. Некоторые церковные писатели первых веков христианства занимаются исключительно изучением ересей, они насчитывают огромное количество мистических и обрядовых христианских сект. Иероним знает их не менее сорока пяти, но Августин насчитывает уже восемьдесят восемь, Предестин - девяносто, а Филастрий, писатель конца IV столетия, живший в эпоху арианства, находит возможность указать более ста пятидесяти. Исидор, епископ севильский, один из авторитетных свидетелей, насчитывает в VII веке около семидесяти сект, большая часть которых вела свое начало с первых веков, и замечает, что "есть другие без основателей и без названий".
В эпоху возникновения христианства были самые разнообразные общества, секты, всевозможно толковавшие каждый церковный догмат, следовавшие самым противоположным правилам жизни. Многие из них отличались странностью, невежеством, суеверием. Антропоморфиты придавали верховному Существу человеческие члены; артотириты (т.е. "хлебоедцы"), следуя примеру первых людей, принимали в пищу исключительно хлеб и сыр, как "плоды земли и стад"; адамиты, следуя тому же указанию, ходили нагими, как мужчины, так и женщины; николаиты (одна из древнейших сект, что видно по Апокалипсису Иоанна; вели свое учение от диакона Николая - одного из диаконов, поставленных еще апостолами) предавались крайнему разврату, по примеру вождя, который предлагал свою жену всякой общине, и т.п. некоторые секты отличались причудливой мифологемой. Как, например, последователи некоего Керинфа, учившего, что мир сотворен не первым богом, но силою, которая далеко отстоит от этого превысшего первого начала и ничего не знает о всевышнем боге. По отношению к богу к этой ереси очень близка ересь эбионитов. Но в большинстве этих сект господствовали учения, которые содержали в себе дуалистический элемент позднейшего катарства.
Под этим наименованием существовала секта еще в первый век христианства, хотя система ее дошла до нас смутно и отрывочно, Катары (kataros - греческое "чистый"; латинское - "пуританин") времени святого Августина называли так себя вследствие той чистоты жизни, которую они проповедовали. Они восставали против любодеяния, брака, отрицали необходимость покаяния. По имени Новата, восстававшего против перекрещения и принятия отступников, сучением которого первые катары представляли нечто сходное, их часто называли новатианами (представители крайнего крыла христианского духовенства, возражавшего после гонений императора Деция в 251 году против возвращения в церковь людей, смывших с себя крещение) и смешивали с этими последними. Но из слов источников не видно, чтобы тогдашние катары следовали основам системы альбигойского дуализма. Полагают, что эти первые катары или исчезли в IV столетии, или слились с донатистами (движение донатистов (от имени карфагенского епископа Доната) возникло в 311 году под лозунгами, схожими с лозунгами новатиан). Тем не менее, разбросанные элементы позднейшего альбигойства можно проследить во множестве гностических и других сект эпохи, современной как веку языческих императоров, так и веку Исидора Севильского.
Верования в борьбу доброго и злого начала, восточная космогония и вместе с тем воздержание составляли в тогдашних системах явления далеко не редкие.
Мы отмечали уже общие основы гностицизма. Они удерживались во всех ответвлениях этой обширной системы, во всех созданиях ее последователей, положивших начало собственным теориям. Каждый из них приносил с собой какое-либо новое понятие, что вместе послужило материалом для позднейшей мысли. Менандровцы, василидовцы, кердониане, маркиониты и другие гностики, а также Архонтики не признавали мир созданием Бога (разделяли Бога-Создателя и Архонта, правившего созданным миром). Валентин считал Христа прошедшим через Святую Деву и не оскверненным - как вода проходит через канал; тогда как Карпократ и Павел Самосатский, напротив, развивали теорию о человечестве Христа.
Христиан первых веков волновала та же мысль, над разрешением которой бились дуалисты XII и XIII столетия и из-за которой они вызывали столько отвращения к себе у католических современников. Тем самым из множества бродивших идей, под непосредственным влиянием гностиков, составлялись последовательно учения манихеев, присциллиан, ариан, павликиан и позднее болгарских богомилов - тех сект, которые, с большей или меньшей вероятностью, разными авторитетными учеными признаются за непосредственных родоначальников позднейших альбигойцев дуалистического или, как мы называем, восточного направления.
Корень перечисленных учений лежит в степях Средней Азии, и Мани.
Манихейство до сих пор недостаточно изучено и оценено. Оно пленяло умы и сердца людей в гораздо большей степени, чем это позволяет думать поверхностное знакомство с его экзотической мифологемой, и оставило осадок в религиозном мышлении христианского человечества более значительный, чем обыкновенно допускают. Основателем манихейства являлся перс Мани, родившийся в первой четверти III в. в Ктесифоне. Он черпал свои идеи в секте могтазилах - крестильников, родственной мангеям, и елкезиастам и другим, а также в маркионизме, в системе Василида. Ересь Мани привлекала к себе своим рационализмом, проявляющимся в радикальном дуализме. На рядовых христиан манихейство производило впечатление своим аскетизмом, воздержанием. Однако именно это не позволяло завоевать широкие народные массы. В гораздо большей степени людей привлекал антигосударственный характер ересей, позволяющий выразить свой социальный протест.
Мани считал себя призванным объяснить то, что доселе так противоположно трактовалось. Он внимательно изучал каббалиста Скифиана, жившего при апостолах и склонявшегося к гностицизму. Учение Зороастра не могло во всей своей полноте удовлетворить Мани, который предпочитал верования более древних магов.
Идеям Мани был присущ пантеизм, который так же был характерен всем гностическим сектам. Он говорил, что не только причина и цель всего существования в Боге, но одинаковым образом и Бог присутствует везде. Все души равны между собой, а Бог присутствует во всех них, и такое одухотворение свойственно не только людям, но и животным, даже растения не лишены того. Повсюду на земле нельзя не видеть преобладания или добра или зла; примирение - это вымысел, в действительности его не существует. Добрые и злые существа враждебны уже с самого дня своего создания. Эта враждебность вечна, как вечна преемственность созданий, населяющих мир. Так как в добрых и злых явлениях, физических и духовных, нет ничего общего, то они должны происходить от двух различных корней, быть созданием двух божеств, двух великих духов: доброго и злого, Бога собственно и Сатаны, ему враждебного. У каждого из них есть свой Мир, оба они внутренне независимы, вечны и враги между собой, враги по самой природе своей.
Для Мани его Сатана есть непосредственное состояние материи. В ней все зло, и человек, скованный ею, только победой над ней, подвигами самоумерщвления, подавлением страстей, чувств, любви и ненависти получает надежду высвободиться из царства зла. Во всяком случае, Бог света должен быть выше Бога мрака, и врожденное этическое чувство подсказало творцу системы победу первого над вторым.
Большое внимание манихеи уделяли нравственной чистоте человека. Высокое призвание человека - в нравственной чистоте, вот почему иногда манихеи называли себя катарами, то есть чистыми. Земля, видимый мир, созданный Богом при посредстве животворного духа, должен был послужить ареной духовных подвигов первых людей, свидетелем их борьбы с телом. Такому толкованию верили "непосвященные слушатели", как они назывались в общине; избранные же поднимались до идеального созерцания предметов. (Подобное деление было и у альбигойцев.) Избранным или совершенным предлагался и более тяжелый практически кодекс морали, сходный с правилами сирийских гностиков и их суровым образом жизни. Очищение, освобождение от привязанностей земных, чистота и святость - цель бытия.
Так же Мани развил замечательное учение о душе. Воскресения мертвых Мани не принимал и стоял на воззрениях дуализма. Однако он внес в свое учение многое, непосредственно принадлежавшее христианству. С ним проповедовало двенадцать апостолов, семьдесят два епископа; у него были пресвитеры и диаконы для религиозного служения в различных местах.
Такбыли созданы манихейские богословие и Церковь, или, лучше, манихейская философская система. Пределы ее распространения были обширные, она с удивительной быстротой появилась на Востоке и Западе. Рядом с христианским воздвигался новый, манихейский молитвенный дом, и это было тогда, когда сама христианская религия еще не получила права на звание государственной. Церковная внешность и ортодоксальные приемы способствовали распространению манихейства. Подобно альбигойцам, манихейцы искусно умели пользоваться характером новых адептов, их ревностью к обряду, к букве. Поначалу они делали уступки, склоняя на свою сторону католиков евангельскими текстами, которые после начинали перетолковывать аллегорически. Будучи философами по убеждениям, они не отказывались от Крещения, но приводили его к простой обрядности и напоминали слова Спасителя: "Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять; А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную" (Евангелие от Иоанна, 4: 13-14). Под Причащением они подразумевали евангельское представление о духовном хлебе.
Основатель секты мученически погиб в 274году от рук персидского царя, осужденный собором зороастрийских священников, противившихся распространению манихейства. Для позднейших поколений Мани стал человеком-легендой. Для своих последователей он был то Зороастром, то Буддой,
то Митрой, то, наконец, Христом. Как увидим, влиянию его мыслей трудно будет определить пределы. Могущество его духа проявляется тем решительнее, тем замечательнее, что его система была плодом лишь личных, и исключительно его, размышлений. Дуализм видоизменялся и развивался в разные эпохи в результате самостоятельного творчества, но в первой и самой влиятельной своей манихейской форме он был делом одного ума. Гнозис сирийской школы дал Мани особенный авторитет на Востоке, утвердив на Западе в следующем, четвертом, столетии дуализм его ученика, Присциллиана.
Широкое распространение получила ересь монтанистов, возникшая во второй половине II века. Основателями ее были Монтан, его ближайшими продолжателями - Присцилла и Максимилла (фригийские женщины). Те христианские течения, среди которых вырабатывалась основная линия исторического развития церкви, вели долгую и упорную войну с монтанистами, которых отчасти поддерживала такая значительная фигура как Тертуллиан. Ересь называли также катафригиской так как возникла она во Фригии. Как и многие еретики, монтанисты в своих взглядах почти не отходят от доктрин церкви. "Они принимают пророка и закон, исповедуют отца и сына и дух, чают воскресения плоти, как проповедует и церковь; но они проповедуют и некоторых своих пророков, т.е. Монтана, Присциллу и Максимиллу". Но катафригийцы расходились с ортодоксальной церковью в одном положении веры: следуя Савелию они "втискивали" троицу в одно лицо, а так же не соблюдали традиционную обрядовость и церковную иерархию. Тем не менее, даже небольших отличий было достаточно, чтобы церковь ополчилась против ереси Монтана.
Католики жаловались на них за пародию святого таинства при Крещении и Причащении, где они произносили какие-то непонятные, мистические слова, подобно гностикам, а также на то, что у них женщины допускаются к системе публичного обучения, что строго запрещено соборами. Вообще еретики в этот век разложения западной империи представляли собой общество более образованное, более крепкое своей нравственной силой. К ним часто обращались лучшие умы времени. Многие риторы, поэты, ученые, весьма знаменитые женщины и, наконец, священники, епископы принадлежали к этой секте, блиставшей дарованиями и красноречием своих основателей. Это учение было широко распространено в Испании и Галлии; Аквитания и Нарбоннская провинция скоро сделались центром присциллианской ереси. Собственно манихеи не могли бы удерживать за собой такого количества последователей, потому что не представляли христианской Церкви в строгом смысле этого слова.
Император Максим, уступая настояниям святого Мартина, сам казнил присциллиан и приказал везде предавать еретиков казни в случае сопротивления.
Это были первые соборы против еретиков. Для тогдашних мечтателей и утопистов в религии, смотревших на богословский спор как на вопрос исключительно философский, такое административное и церковное преследование было неожиданным. Но эта новость послужила примером, которому стали подражать слишком часто. Из-за преследований еретики поспешили соединиться в более крепкие и дружные общества. Секта приняла таинственность обрядов и сделалась недоступной для непосвященных, тем заманчивее увлекая последних. До середины VI века она держится как отдельное и сильное вероисповедание, и только собор в Браге нанес решительный удар по ее существованию. Но, тем не менее, идеи присциллиан, так счастливо посеянные, нашли себе поддержку в скептицизме народного лангедокского характера. Эти идеи не исчезали, а, обогатившись новым материалом, растили будущую, гораздо более сильную оппозицию альбигойцев.
Около того же времени в тот же Лангедок были занесены с Востока сходные воззрения павликиан - секты, родственной сирийскому гностицизму, того же греческого происхождения, с теми же неоплатоническими началами, но потерявшей многое из манихейских преданий. Если быть конкретным, то павликианство возникло в Армении в середине VII столетия. Названо, видимо, по имени апостола Павла, возможно, имеет генетическую связь с паулистскими церквями I-II веков. Основатель движения - армянин Константин Сильван.
Провансальские павликиане даже проклинали память знаменитых ересиархов древности, они предавали анафеме Скифиана, Будду и самого Мани. В Галлии они назывались публиканами. Они сходились с манихеями только в понятии о дуализме и борьбе начал, отвергая, подобно будущим вальденсам, всякий внешний культ, придавая Крещению и Причастию одно лишь обрядовое значение произнесением известных слов. У них не было иерархии, никакого следа церковной организации, как не будет ее у вальденсов. Подобно последним, они признавали брак, не отвергали мяса. Собственно, на павликианскую систему надо смотреть не иначе, как на ту уступку, которую сделал азиатский дуализм европейскому рационализму в христианстве, как на первообраз будущих реформаторов XII столетия, смутно колебавшихся в вопросах веры и балансировавших между рационализмом и христианским богословием.
Поэтому если павликиане и занимают место в общей истории альбигойцев, то было бы жестокой ошибкой производить от них дуалистов альбигойских (катаров), хотя это делают даже такие представительные авторитеты, как Боссюэ, Риччини, Муратори, Мосгейм, Гиббон, наконец, некоторые историки ересей новейшего времени, такие как Ган, русский исследователь духоборов Новицкий и англичанин Майтланд.
В отношении же догматическом поздние катары имели с павликианами столько же общего, сколько массилиане (от Массилии, Марселя), эти "полупелагиане", названные так потому, что составляли исключительное достояние Прованса, где появились в конце IV века с догматикой, развитой учеником Пелагия Кассианом и поддерживаемые марсельскими священниками и несколькими епископами Аквитании. Совершенно чуждые дуализма, массилиане стояли на католической почве и привносили лишь собственный взгляд на благодать, необходимость которой если не совсем отвергали, то, во всяком случае, придавали ей второстепенное значение, содействующее человеку верующему. В манихейских обрядах упрекали только собственно пелагиан. Против массилиан же вооружились соборы в Арле и Лионе (475г.), а Аравзийский собор в 529 году наложил на них проклятие.
Но самым замечательным еретиком, потрясшим церковь, был Арий. Он отрицал тождественность, единосущность бога-отца и бога-сына; сын не существовал до рождения, не может быть изначален: творение не может равняться творцу. По существу Арий стоял на той монархианской позиции, которая была уже признана ересью и осуждена. Тонкой, едва заметной струей манихейство вливается в арианство, и восточная философия, преследуемая основателем этой обширнейшей из ересей, тем не менее, часто служит материалом для систематических построений Ария. У Ария, наконец, встречаются слова "Логос", "София"; у него Бог Сын - чуть ли не демиург, создавший первых людей вместе с Духом, который позже содействовал ему в делах творения. Тонкости и трудности системы, отсутствие ясности и точности, особенно в определении субстанции Сына, - те же признаки гностицизма; эти стороны особенно способствовали падению ереси.
Арий энергично повел пропаганду своей доктрины. В результате чего движение проникло глубоко в общество. Этому способствовало также то, что в это время ясно обозначилось противостояние между восточной и западной церквями. Неспособность определить однозначно догматиков было на руку арианам, их абсолютному торжеству. "Наступило тяжелое время, - писал Иероним, - когда весь мир исповедовал арианство".
Конец торжеству арианства положил Собор в Константинополе 381 года, одобривший только веру в "единосущие". Однако арианство долго еще давало о себе знать. Имея большое влияние на европейские государства, там оно упорно держалось, во многом благодаря простоте своих положений. Остготы оставались арианами до 553г., вестготы Испании - до Собора в Толедо 589г.; вандалы до 533г., когда были сломлены Велизарием; бургунды были арианами до присоединения их к королевству франков в 534г., лангобарды - до середины VII века.
При рассмотрении арианства несомненной становится его связь с альбигойскими катарами. Современнику альбигойской войны, английскому летописцу Роджеру Говедену, провансальские еретики прямо представлялись потомками ариан. Такими же они казались знаменитому автору арианской церковной истории - Христофору Санду.
Но если в учении Ария скрывается гностический элемент, то далеко не в такой степени, чтобы без особенной натяжки он мог создать абсолютный дуализм, которым отличается главная ветвь катаров, и чтобы можно было находить какую-либо традицию, кроме косвенной, то есть той, какую оказывают на образование религиозных и философских систем события прошлого. В этом смысле арианство заметно повлияло на альбигойских еретиков, хотя ариан, как отдельных сектантов, в XIII столетии в пределах Лангедока не существовало.
Таким образом, арианство невозможно считать случайной вспышкой. Была масса условий общего характера, которые подготовляли и поддерживали его. Колоссальная энергия, которую в первые века затрачивала церковь на борьбу с государством, теперь освободилась и пошла на внутреннее самоустроение. Все недоговоренное, сдавленное угрозой внешней опасности вырвалось на свободу, потребовало уяснения и формулировки. Нигде это оживление достигает такого высокого уровня, как в области догматической деятельности.
Усиление церкви на Западе, особенно после принятия христианства по обряду римской церкви королем Хлодвигом, укрепляло союз алтаря и трона и подчиняло народные массы господствующему классу.
Рост экономического и политического могущества церкви сопровождался усилениям нравственной распущенности духовенства, оправдывавшегося "немощью человеческой природы" перед неодолимой силою греха. Так монах Пелагий уже в V веке, возмущенный римским клиром, отрицал учение церкви о первородном грехе. Он говорил, что "неодолимого греха" не бывает: если он - дело необходимости, то он не грех; если совершение греха зависит от человеческой воли, его можно избегнуть: человек сам спасается, как и сам грешит". Пелагию вторит Целестий. В 412г. Их учение было признано еретическим.
На Востоке народные массы также испытывали на себе государственный гнет, только уже целой империи. Это выливалось в недовольство принимавшее религиозные формы. Получили широкое распространение христологические ереси. Из них выделяется монофизитство, ересь, основанная архимандритом Евтихием или Евтихом, поддержанная александрийским патриархом Диоскором и осужденная церковью на Халкидонском (Четвертом Вселенском) соборе 451г.
Сущность монофизитства состоит в утверждении, что Христос, хотя рожден из двух природ или естеств, не в двух пребывает, так как в акте воплощения неизреченным образом из двух стало одно, и человеческая природа, воспринятая Богом-Словом, стала только принадлежностью Его божества, утратила всякую собственную действительность и лишь мысленно может различаться от божественной. Монофизитство определилось исторически как противоположная крайность другому, не задолго перед тем осужденному, воззрению - несторианству, которое стремилось к полнейшему обособлению или разграничению двух самостоятельных природ в Христе, допуская между ними только внешнее или относительное соединение или обитание одного естества в другом, - чем нарушалось личное или ипостасное единство Богочеловека.
Монофизитство вызвало большие волнения в Восточной империи. Само монофизитство не оставалось единым. Оно разделилось на две главные секты: севериане (феодосиане) или тленнопоклонники, юлианисты или нетленнопризрачники, фантазиасты. Последние (юлианне) в свою очередь распадались на ктиститов и актиститов. В дальнейшем выделились также ниовиты и тетратеиты.
Ни одно из религиозных движений раннего средневековья не принесло Византии столько бед, как монофизитство: оно оказалось на знамени всех сепаратистов и нравственно, а потому и политически, оторвало от империи ее добрую половину. Страстная борьба не раз доходившая до кровопролитных столкновений, потрясала империю полтора века. Религиозные интересы, вызвавшие движение, в значительной степени подчинялись игре политических сил. Они создали кризис, но не могли управлять ходом событий. В момент обострения религиозных споров на сцену выступает борьба за преобладание трех главных церквей - Александрийской, Константинопольской и Римской - и доводит напряжение до крайней степени.
Это в очередной раз наглядно демонстрирует нам то, что все споры о "вере" носили не только умозрительный, но и, как правило, сугубо практический характер; использовались для достижения определенных целей. Главной целью во все времена являлась власть. Тем, кто рвался к власти "нужны были понятия, догматы, символы, с помощью которых можно было тиранить массы, сгонять людей в стада. Это "христово стадо", масса угнетенных не только государством, но уже и церковью, людей, создавало мощные еретические движения, Прикрываясь религиозными лозунгами они хотели достичь воплощения утопических идеалов справедливого мира и прежней простоты церковного устройства. Как мы видим "вера" была только предлогом, маскарадом, занавесом, - позади играли инстинкты. О "вере" без конца толковали, а поступали, как подсказывал инстинкт.
В VII в. возникло монофелитское движение являющееся видоизменением и естественным продолжением монофизитов. Монофелиты (единовольцы) в своем движении прошли две стадии: моноэнергизма и монофелизма в собственном смысле слова. К середине VIII в. монофелитство сходит на нет. Споры о единой воле были задавлены спорами об иконах. Эти споры вылились в VIII в. в Византии в движение иконоборчества. Суть его заключалась в отказе множества людей почитать иконы, так как это материальные вещи, а, следовательно, творение Сатаны. Особенно эти идеи распространяли павликиане, появившиеся в уже в VI в. и требовавшие отречения от земных благ, уничтожения церковной иерархии и монашества, отмены почитания икон. Данная ересь оказала влияние на возникшее в последствии ереси развитого средневековья. За этой внешне идейной борьбой скрывалась противостояние церкви и государства, недовольство народа возрастающим гнетом церкви и государства. Свидетельством этого является восстание Фомы Славянина, которое проходило под лозунгами восстановления иконопочитания. К восставшим тут же присоединились павликиане проповедавшие, как мы помним, идеи иконоборчества. Это как раз и показывает нам, что ереси в своей сути были выражением социального протеста народных масс, но облаченного в религиозные формы. Не важно, что идеи павликиан и Фомы Славянина расходились, главное, что совпадали их желания. После подавления восстания в 825 году павликиане еще продолжали свою борьбу с государством.
Так же следует особо выделить самобытные богословствования отдельных учителей-раскольников. Уже к середине III в. христианская церковь представляла собой мощную разветвленную организацию, обладавшую большим имуществом. Стоявшие во главе общины богатые епископы, опиравшиеся на новую провинциальную землевладельческую и служилую знать, руководили не только религиозной и финансовой жизнью церкви, но и политикой, направленной против умирающего сенаторского, патрицианского Рима. В тоже время идет ожесточенная классовая борьба внутри церкви; проникшаяся христианской религией беднота, эксплуатируемая своими же единоверцами и церковью, бессильно мечтает о возврате к мнимой "чистоте" первоначального христианства; отчаяние эксплуатируемых прорывается в ересях и расколах. В этот напряженный период происходит раскол Новата, Новациана и других. Епископ карфагенский Киприан сообщает, что Еварист, бывший епископ, отлученный от кафедры "блуждает по отдаленным областям…и старается увлечь других себе подобных. А Никострат, лишившись священного диаконского сана и бежав из Рима…выдает себя за проповедника". Киприан не скупится на слова описывая Новата - "всегдашнего еретика и вероломца", который первым зажег "пламя несогласия и раскола". Так же Киприан извещает о "коварных замыслах Фелициссима…который покусился отделить от епископа часть народа и сделался вождем крамолы и начальником возмущения".
Таким образом, ереси появляются уже в ранний период христианства. На этот период достаточно сложно обрисовать картину движения религиозных сект, которые чаще всего представляли собой переход к христианству от иудейства и других религиозных течений. Утверждение основных догматов христианства проходило достаточно долго, что порождало множественные интерпретации основных его положений и определяло тем самым идейное богатство возникавших ересей. Однако уже тогда еретичество (сектанство)"представляло собой … громадный лагерь, куда бежали все упавшие духом, сломленные в своей энергии, разочарованные в возможности сопротивления оружием. То есть, говоря другими словами ереси, изначально приобретали форму социального протеста, носили политический характер. Религиозные прения становились способом выражения недовольства определенных социальных групп, борьбы против существующих порядков. Все это отчетливо проявляется в еретических движениях раннего средневековья. Именно в этом виде ереси приобретут наибольший размах и значение в эпоху развитого средневековья.
Цель данного раздела предполагает изучение лишь отдельного периода развития еретических движений, а именно развитого Средневековья. К таковым относят ереси XIV-XVI веков табориты, апостольские братья, лолларды, анабаптисты).
Также следует уделить внимание альбигойским и, в свою очередь катарским ересям, имеющим свой исток в альбигойском движении. Эти ереси (хотя и относятся к ересям раннего средневековья) имеют значение для данной работы, т.к. рассеянные остатки секты просуществовали до конца XIV в.
Христианская секта альбигойцев получила широкое распространение в 12-13 вв. в Западной Европе. Она являет собой аскетическое религиозное движение.
Приверженцы секты именовались альбигойцами (по городу Альби, центру движения), а также катарами (греч. katharos, «чистый») от названия ранней манихейской секты, члены которой стремились очиститься - освободиться от телесности и материальности. Они утверждали сосуществование двух основополагающих начал - доброго божества (Бога Нового Завета), создавшего дух и свет, и злого божества (Бога Ветхого завета), сотворившего материю и тьму. Отрицая власть церкви и государства, они апеллировали к Священному Писанию, в основном к Новому Завету, ибо Старый Закон (Ветхий Завет) рассматривался в целом как творение дьявола. Запрещались клятвы, участие в войнах, смертная казнь.
Наряду с соборными постановлениями волну альбигойства помогало сдерживать и общее нравственное возрождение под воздействием таких проповедников, как святые Петер Ноласко и Бернар Клервоский, которые боролись с одной из главных причин роста популярности альбигойства - распущенностью духовенства и народа. Для борьбы с невежеством - источником ереси, св. Доминик учредил в 1216 орден проповедников (доминиканцев), члены которого были призваны наставлять верующих в христианском учении.
Последняя и кровавая стадия в истории катаров - серия сражений (1209-1228), часто называемых альбигойскими войнами или крестовыми походами против альбигойцев. Особенно ожесточенными были битвы при Безье, Каркассонне, Лаворе и Мюре; войсками предводительствовали граф Тулузский (со стороны сектантов) и Симон да Монфор (со стороны крестоносцев). Еще до этого, в 1208, папа Иннокентий III призвал к крестовому походу после того, как сектанты убили папского легата. Согласно мирному договору 1229 в Мо (Парижский договор), большая часть территории альбигойцев перешла к королю Франции. (6)
Альбигойцы отвергали институт брака как таковой и деторождение. При этом сожительство рассматривалось как меньшее зло по сравнению с браком; уход же мужа или жены считались достойными похвалы.
Следуя своей традиции дуализма, альбигойцы поощряли освобождение от тела, в частности через самоубийство.
Итак, учение альбигойцев было сродни манихейству. Они признавали наличие в мире двух паритетных начал: светлого - духовного и темного, с которым связывали всё материальное. Бог-Творец считался ими злым началом, поскольку именно от Него происходит материя, являющаяся источником зла и «темницей» духа. Поэтому и Церковь, прославляющюю «злого» Бога они считали тёмной силой, отрицали авторитет церкви и всячески с ней боролись. Авторитет и вес имело лишь Священное Писание.
Одним из первых представителей ереси этого периода был профессор Оксфордского университета Джон Уиклиф , выступивший в конце XIV в. против зависимости английской церкви от папской курии и вмешательства церкви в дела государствава. Уиклиф осуждал церковную иерархию и церковноеное богатство, утверждая, что они противоречат писанию. В жизни Уиклифа выделяют три периода:
- 1) до 1373 - академический;
- 2) 1374-1378 - политический;
- 3) 1379-1384 - еретический. (6)
Академический период характеризуется получением Уиклифом образования в Оксфордском университете. Он получает степень магистра теологии.
В политический период Уиклифу было поручено защищать антиклерикальный курс сына короля, Эдуарда, принца Уэльского.
Еретический же период представляет наибольшую ценность для нас в рамках данного исследования.
В 1376 г. брат принца Уэльского, Джон Гентский, призвал Уиклифа в Лондон, чтобы тот в своих проповедях выступил против епископальной системы правления и с другой критикой. Проповедник справился с поручением настолько успешно, что собрание его теологических мнений было отправлено в Рим для изучения, а самого Уиклифа вызвали на допрос высшие английские иерархи в собор св. Павла. Церковь, заметим, неустанно борется с Уиклифом, но у него защита университетских властей и его друзей при дворе.
В ответ на церковные обвинения Уиклиф начал критиковать католическую практику и учение. В этот период он побудил своих последователей взяться за перевод Библии на английский язык.
Именно взгляды Дж. Уиклифа послужили основой и базой для формирования идей религиозного движения лоллардов.
Теперь рассмотрим основные идеи секты и их отношение к церкви.
Впервые появились лолларды в Антверпене около 1300. В Англии выступили с начала 1360-х гг..Активизации лоллардов способствовало усиление социальных противоречий во 2-й половине 14 в. Выступая на улицах селений и рыночных площадях, лолларды вслед за Дж. Уиклифом отвергали привилегии католической церкви и требовали секуляризации её имущества. В то же время лолларды значительно усилили социальное звучание своих проповедей. Они резко критиковали несправедливость феодального строя, требовали отмены барщины, десятины и налогов, уравнения сословий. Хотя лолларды не выступали с прямым призывом к восстанию, их проповеди помогали народным массам формулировать конкретные социальные требования.
Велика роль этого крестьянско-плебейского движения в идеологической подготовке УотаТайлера восстания 1381, а Дж. Болл стал одним из его вождей. После подавления восстания усилилось преследование лоллардов; на основе статута 1401 о сожжении еретиков начались их казни. Многие члены движения вынуждены были переселиться на континент и в Шотландию. В самой Англии приверженцы этого движения сохранились вплоть до начала 16 в., способствуя подготовке английской Реформации. (7)
В целом, можем говорить смело о том, что лолларды не отрицали авторитета церкви. Они лишь стремились к упрощению ее убранства и требовали секуляризации церковных земель и остального имущества. Основные требования лоллардов - передача земель крестьянским общинам и ликвидация крепостного права. Учение лоллардов было направлено против феодального строя в целом.
Еще в середине 1380-х в Чехии стали распространяться труды английского реформатора Джона Виклифа. Под влияние идей Виклифа попал и Ян Гус. Во время Великого западного раскола (схизмы) в римско-католической церкви Гус был в числе тех, кто сохранял нейтралитет по отношению к противоборстующим сторонам.
Проповедуя в Вифлеемской часовне, Гус высказывал мнение, отличное от официальной церковной догматики. Ниже перечислены его мнения по некоторым вопросам.
Нельзя взимать плату за таинства и продавать церковные должности. Священнику достаточно взимать небольшую плату с богачей, чтобы удовлетворить свои первейшие жизненные потребности.
Нельзя слепо подчиняться церкви, но нужно думать самим, применяя слова из Священного Писания: «Если слепой поведёт слепого, оба в яму упадут».
Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть Им признана.
Собственность должна принадлежать справедливым людям. Несправедливый богач есть вор.
Каждый христианин должен искать правды, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью.
Чтобы распространить свои учения, Гус не только проповедовал с кафедры: он также приказал расписать стены Вифлеемской часовни рисунками с назидательными сюжетами, сложил несколько песен, которые стали народными и провёл реформу чешского правописания, сделавшую книги более понятными для простого народа.
Для того, чтобы проследить развитие предреформационных взглядов и идей в Чехии, остановимся на некоторых фактах биографии Яна Гуса (в последующем идеолога чешской Реформации) и исторических событиях, имевших место в тот период.
С 1401 года Гус читал проповеди в костёле св. Михаила, а в 1402 г. Гус был назначен настоятелем и проповедником частной Вифлеемской часовни в старой части Праги, где занимался в основном чтением проповедей на чешском языке, на которые собиралось до трёх тысяч человек. В этих проповедях Гус не только часто затрагивал повседневную жизнь (что было необычно в то время), но и открыто критиковал клир, феодалов и бюргеров. Хотя он критиковал церковь, он считал себя верным её членом, вскрывающим недостатки людей и служащим во благо церкви.
В 1411 году архиепископ Збинек прямо обвинил Гуса в ереси. Это обвинение бросило тень на университет и на короля Вацлава IV, который оказывал поддержку Гусу. Вацлав назвал заявление Збинека клеветой и приказал конфисковывать владения тех священников, которые распространяли эту «клевету». Збинек бежал в Венгрию.
В 1412 году антипапа Иоанн XXIII начал продажу индульгенций, так как хотел организовать поход против другого антипапы Александра V. Гус выступил как против индульгенций, так и против права иерархов христианской церкви поднимать меч на их врагов. Иоанн XXIII наложил на Гуса проклятие и интердикт. Чтобы не подвергать интердикту всю Прагу, Гус уехал в Южную Чехию, где шляхта не подчинялась решениям папы, где продолжил открыто критиковать церковную и светскую власть.
В 1414 г. Гус был вызван на Констанцский собор, имевший целью объединить Римскую католическую церковь и прекратить Великий западный раскол, который к этому времени уже привёл к троепапству. Причем император Сигизмунд обещал Гусу личную безопасность. Однако, когда Гус прибыл в Констанц и получил охранную грамоту, оказалось, что Сигизмунд дал ему обычную подорожную грамоту. В присутствии папы (впоследствии признанного антипапой) Иоанна XXIII и членов Собора против Гуса выдвинули обвинение в ереси и организации изгнания немцев из Пражского университета. Ян Гус прибыл в Констанц в ноябре 1414 года, а в декабре он был арестован и заключен в одной из комнат дворца. Когда некоторые друзья Гуса обвинили Собор в нарушении закона и императорской клятвы о безопасности Гуса, папа ответил, что он лично ничего никому не обещал и не связан обещанием, которое дал император. Когда же императору Сигизмунду напомнили о данном им обещании, он отказался вмешиваться и защищать Гуса. Это принесло ему много неприятностей впоследствии, когда в 1419 г. он стал королем Чехии и был вовлечен в опустошительные Гуситские войны. Поначалу Гус отказывался говорить на допросах, и чтобы он начал говорить, ему зачитали смертный приговор, который можно было сразу же привести в исполнение, если Гус не будет защищаться. Вскоре Иоанн XXIII бежал изКонстанца, так как собор потребовал его отречения. Это ещё сильнее ухудшило положение Гуса, который раньше содержался относительно почётно как пленник папы, а теперь был предан констанцскому архиепископу, который посадил его на хлеб и воду.
- 8 мая 1415 года моравская шляхта направила Сигизмунду петицию с требованием освободить Гуса и дать ему слово на соборе. 12 мая такой же протест выразил сейм Чехии и Моравии, а позже чешское и польское дворянство, находившееся в Констанце. Чтобы удовлетворить их, Сигизмунд организовал слушание дела Гуса на соборе, которое проходил с 5 по 8 июня. После вынесения смертного приговора Гусу, Сигизмунд и архиепископы много раз приходили к Гусу с просьбой, чтобы он отрёкся от своих убеждений, но он этого не делал.
- 1 июля Ян Гус направил собору послание, в котором окончательно отказался отречься от своих убеждений. 6 июля 1415 г. Ян Гус, отказавшийся отречься от своих «заблуждений», по приговору собора был сожжён на костре. (8)
Смерть Гуса стала одним из поводов Гуситских войн, которые вели его сторонники (гуситы) против Габсбургов и их сторонников. В движении гуситов происходит раскол на почве несовпадения основных идей и дальнейших целей: радикальные гуситы («табориты») требовали религиозной реформы; умеренные гуситы («чашники») перешли на сторону католиков.
Для того чтобы разобраться в различиях взглядов двух ответвлений гуситского движения, рассмотрим основные положения их идеологий.
Таборитами являлись представители революционного антифеодального крыла Гуситского революционного движения. К «общине таборской» (отсюда название - табориты) принадлежали разнородные социальные элементы - широкие слои крестьянства, городская беднота, низшее духовенство, ремесленники, часть мелкого дворянства.
Определяющей в таборитстве (особенно в первый период движения) была революционная антифеодальная крестьянско-плебейская идеология, в основе которой лежало хилиастическое учение о «царстве божьем на земле» - «царстве» всеобщего равенства и социальной справедливости.
Левое крыло составляли пикарты, выступления которых встречали оппозицию умеренных таборитов, выражавших интересы главным образом зажиточного крестьянства и состоятельных горожан. Несмотря на разногласия, табориты оставались основной военной силой восставшей Чехии.
Табориты создали полевое войско, которое руководствовалось боевым уставом Я. Жижки, разработали передовую для того времени военную тактику, предусматривавшую манёвренность, применение боевых возов и артиллерии. Войско таборитов (предводительствуемое Микулашем из Гуси, Жижкой, Прокопом Великим) разгромило 5 крестовых походов, организованных реакцией против гуситов. Вместе с «сиротами» (так называли себя после смерти Жижки войска, бывшие под его непосредственным командованием) табориты совершили серию походов за пределы Чехии. (7)
Идеалом таборитов была демократическая республика. Они отрицали всякую иерархию, как духовную, так и светскую. Основой их общественной организации была община, причем у них строго различались общины военные и семейные; обязанностью первых было исключительное занятие военным делом, вторых - ремесла, сельское хозяйство и доставление всего необходимого для войны.
Табориты стремились к уничтожению господства немцев и к установлению полной самостоятельности и независимости чешского элемента. Низший класс чешского народа крестьяне, мелкие мещане, составившие главный контингент таборитов, - были пропитаны ненавистью к католическому духовенству, которое, проповедуя милосердие и любовь к ближнему, эксплуатировало этого «ближнего» немилосердно.
Духовенство жило в роскоши и богатстве, а народ был обложен большими податями и налогами. Пражскому архиепископству, например, принадлежало до 900 сел и много городов, из которых иные равнялись по величине и благосостоянию городам королевским. Привилегии духовенства достигли таких размеров, что даже короли подумывали об их ограничении.
Неудивительно, что при первом призыве со стороны вожаков радикальных таборитов массы народа двинулись на гору Табор - главный оплот таборитов.
Никакие угрозы со стороны властей и господ не могли удержать этого движения. Многие бросали свое имущество или продавали его за бесценок, сжигали свои дома, расторгали общественные и семейные связи.
Угнетенный народ находил утешение в новом учении, основанном исключительно на Священном Писании. Ему говорили на родном языке об евангельской простоте и любви, о равенстве, о братстве. Религия в этой форме переставала быть для народа непонятным абстрактным учением, а делалась реальным воплощением божественной любви и милосердия.
Но, существующие противоречия таборитов с бюргерско-рыцарским лагерем (так называемыми чашниками) привели к открытой войне между ними. В ряде битв (1423, 1424) чашники были разбиты. 30 мая 1434 войско таборитов потерпело поражение от объединённых сил чашников и феодально-католического лагеря в сражении при Липанах; отдельные отряды таборитов продолжали борьбу до 1437, когда пала их последняя крепость Сион.
Что касается отношения таборитов к католической церкви, можем сделать вывод о том, что авторитетом для них служило лишь Священное писание. Умеренные табориты в целом не отрицали авторитет церкви, скорее относились к ней с пренебрежением, требуя лишь ее удешевления, отмены церковных таинств, пышного католического культа.
Более радикальное крыло отрицательно относилось к католической церкви. Отрицали все христианские святыни и обряды.
Теперь рассмотрим идеи противостоящего таборитам движения чашников. Чашники или, как их еще называли, каликстинцы являлись представителями умеренного крыла в Гуситском революционном движении 1-й половины 13 в. в Чехии.
Программа чашников, отражала интересы средних слоев городского населения, мелких и части крупных чешских феодалов; сформулирована в Пражских статьях 1420. Чашники требовали права причащения всех верующих (как мирян, так и духовенства) «под обоими видами», не только хлебом, но и вином (последнее в католической церкви? привилегия духовенства), стремились к ликвидации засилья в Чехии немецких феодалов и немецкого городского патрициата, добивались секуляризации церковных земель, свободы проповеди в духе гусизма. (7)
Итак, заметим, что против самого института католической церкви чашники не выступали, но стремились к изменению в обрядах. В целом их цели носили довольно либеральный характер.
Важно отметить и такое протестанское течение как анабаптизм, отделившееся во времена Реформации от главных течений протестантизма.
Начало анабаптизма относится к 1525, когда небольшая группа верующих в Цюрихе под предводительством Конрада Гребеля отошла от последователей Цвингли. В основанных ими общинах они придерживались апостольских правил: во главе их стояли пресвитеры, они придерживались принципов непротивления злу, общности имущества, обличали согрешивших братьев. Планы реформаторов завоевывать для протестантизма кантоны путем постепенных политических шагов, предпринимаемых магистратами, анабаптистами не признавались; они предлагали создавать свободные церкви услышавших благую весть, уверовавших и крестившихся. Жестоко преследовавшиеся церковными и светскими властями эти, как их называли, Швейцарские братья нашли отклику простых людей в германоязычных странах.
Анабаптисты - перекрещенцы, создававшие добровольные религиозные сообщества на основе ревностного соблюдения новозаветных установлений. Социальной базой анабаптизма были городское плебейство, крестьянство, радикальные слои бюргерства. Пестрота социального состава предопределила неоднородность социально-политических и религиозно-догматических устремлений движения анабаптистов.
Общим в системе их взглядов было: отрицание крещения детей и требование вторичного крещения (в сознательном возрасте) при вступлении в анабаптистские общины; отрицание всякой церковной организации и иерархии, икон, таинств; отрицание необходимости каких-либо духовных и светских властей, отказ платить налоги, нести военную службу, занимать общественные должности; осуждение богатства и социального неравенства и призыв к введению общности имуществ; вера в установление тысячелетнего «царства Христова» на земле (хилиазм) как строя социальной справедливости и др.
На первых порах руководители и основные группы анабаптистов отрицали энтузиастические пророчества и насилие, равно как и современные им молитвы и символы веры, поддерживаемые вековыми традициями.
Анабаптисты - настоящие бунтовщики. В качестве руководящей модели анабаптисты избрали раннехристианскую церковь.
Заканчивая рассматривать еретические движения данного периода, сделаем небольшие выводы. Итак, ереси развитого средневековья в XIV-XV веках становятся явлением повсеместным, дифференцируются, наполняются все более глубоким социальным и нравственно-философским содержанием.
Напротив, именно Западная Европа стоит на пороге Реформации, когда будет «сломлена духовная диктатура папства» и около половины западных христиан отпадет от римско-католической церкви. Решительные реформаторские расчеты с Римом сделаются неотвратимыми по мере развития в недрах феодализма зачатков капиталистического производства и разложения патриархально-средневековых отношений, на которые опиралась вся система традиционных институтов господства.
Реформационная идеология имела долгую предысторию. Ее провозвестия мы находим уже в народных ересях XII века (прежде всего у лионского проповедника Петра Вальда).
Английский священник, профессор Оксфорда Джон Уиклиф (1320-1384) и национальный герой Чехии, ректор Пражского университета Ян Гус (1371-1415) были обвинены в ереси. Они провозгласили такие существенные принципы коренной церковной реформы, как уравнение в правах мирян с духовенством, секуляризация церковных имуществ, упразднение большинства таинств и обрядов, отмена монашества. Они были строго преследуемы и караемы за свои взгляды. (6)
Северо-Кавказский Государственный
Технологический Университет
Р Е Ф Е Р А Т
На тему "Еретические движения 14-15 вв."
Студент гр. АСУ-01-2
Барашев Василий
Научный руководитель Щупец Е.С.
Владикавказ 2001
План
1. Вступление
2. Стригольники и жидовствующие
3. Борьба с еретиками.
Со второй половины XV в. в России наступает экономический переворот – появляется постоянный и с каждым десятилетием расширяющийся рынок для сбыта сельскохозяйственных продуктов, растут города и возникает русское бюргерское сословие. Церковь также преобразуется и со стороны организации, и со стороны идеологии, и со стороны отношений к государству. В течение второй половины 15 в. и в течение всего 16 в. на этой почве кипит ожесточенная социальная борьба, в которой церковные группы и деятели принимают оживленное участие. Кризис идеологии феодальной церкви сопровождается появлением еретических течений: он заканчивается соборами 16 в., которые наряду с организационными мерами предпринимают ряд мероприятий для борьбы с еретиками. Динамика этой эпохи запутана, т.к. в ходе событий постоянно сталкивались самые разные течения, церковные и мирские, давая неожиданные сочетания.
Стригольники и жидовствующие.
Первые протестующие голоса против феодальной церковной организации стали появляться в конце 14 в. Начавшееся тогда еретическое движение в своей основе было городским, опиралось на молодое русское бюргерство, преимущественно на ремесленную его часть. Начавшись в Пскове, оно перекочевало в Тверь и Новгород, затем в Москву и, несмотрея на все меры, продолжало оставаться там в течение полутора веков, изменяя форму и содержание, но сохраняя тенденцию бороться с феодальной церковью.
В настоящее время не имеется документальных сведений о начале ереси стригольников , как назвала первую русскую ересь церковь. Известно, что это название было дано сообразно с ремеслом("стригаль сукна" - суконщик) одного из основателей секты. Исходный пункт ереси лежит в местных псковских церковных отношениях, с трудом уживавшихся рядом с феодальной организацией новгородской архиепископской кафедры. Из столкновения городской церкви с притязаниями феодального сеньера, которым был новгородский архиепископ, и появилась секта стригольников.
В начале 14 в. Псков стал независимым от Новгорода в политическом отношении, и стало заметно стремление псковичей добиться того же и в церковном отношении. Зависимость выражалась в праве новгородского епископа собирать пошлины с псковского духовенства и призывать псковских клириков к своему суду. Вскоре возник конфликт между епископом и псковичами, который разрешился компромиссом – Новгород ограничил взимание поборов. Однако это устраивало не всех. Тогда и появились стригольники, отвергнувшие существующую законность, которые "оклеветали весь вселенский собор". Основания для этого найти было нетрудно. Первое, самое главное заключалось в том, что патриархи, митрополиты и епископы "духопродавчествуют" – берут мзду за поставление клириков. Против этого новгородские оппоненты не сумели возразить, оправдываясь только тем, что такая плата существует везде и, следовательно, оне не запрещена канонами. Сделав такой вывод, стригольники признали, что если мзда берется везде, то нигде нельзя найти истинного священства; а т.к. истинной иерархии нет, то она и не нужна. Стригольники нашли в Священном писании, что апостол Павел повелел учить и простому человеку. И вот на место "учителей-пьяниц, которые ядят и пьют с пьяницами и взимают с них злато и серебро" еретики поставили сами себя учителями над народом – "творили себя головою будучи ногою, творили себя пастырями будучи овцами", как выражается один из их обличителей. И начались "страшные вещи" : миряне судят священников и казнят их, "восхищают" сами на себя сан священства и совершают крещение. Характерной была позиция, которую еретики заняли по отношению к молитвам за умерших. Уже Карп-стригольник говорил, что "недостоит над умершими пети ни поминати, ни службу творити, ни приноса за мертвыми приносити к церкви". Неясно, на чем это было основано. Возможно, Карп считал неправильным учение о том, что человек может спастись молитвами других, не имея собственных заслуг. Наиболее крайние представители ереси шли еще дальше. Упоминались еретики, которые отрицают "евангельские и апостольские благовести" и общественный культ со всеми его принадлежностями. Это были уже попытки создать новую веру и новый культ; впрочем, столь крайнее движение было очень слабым.
Эти общие черты стригольнической ереси совершенно ясны по своему характеру: перед нами движение, носящее не аскетическо-дуалистический характер, а протестанстко-реформационный. Как лютеранство, так и стригольничество выступают против эксплуатации местной церкви со стороны чужого духовного сеньера, т.о. стригольничество приходит отсюда к отрицанию тех положений, которые являются для этого сеньера и его клира источником дохода, необходимости профессиональной иерархии, необходимости содержания клира, необходимости молитв за умерших. Таким образом, первым русским проявлением протестантизма следует считать именно стригольников, а не жидовствующих . Многогранное религиозное движение, известное под этим именем, возникло в последней четверти 15 в. и является особенно любопытным. По социальной основе оно было шире стригольничества и нестравненно более могучим. Неудивительно, что историки церкви занимались им особенно внимательно, но совершенно в нем запутались.
В лице жидовствующих мы имеем дело со сложным и широким явлением, сыгравшим немаловажную роль в событиях конца 15 – начала 16 века. Возникнув в Новгороде, ересь, по словам иосифа Волоцкого, проникла в Москву, ко двору самого князя, заразила самого митрополита Зосиму и перекинулась в заволжские монашеские скиты. Очевидно, что несмотря на уверения Иосифа, будто все еретики держались одних и тех же взглядов, дело было совсем не так, разнообразие социальной среды, захваченной ересью, должно было повлечь значительные оттенки в идеологии. Однако церковные историки пришли к самым противоположным выводам о сущности ереси. А.С. Архангельский пришел к выводу, что никакой ереси не было, а были только отдельные лица, высказывавшие критические мнения по поводу различных вопросов вероучения и церковного управления. На противоположном полюсе Е.Е.Голубинский, заявивший, что "ересь жидовствующих представляла из себя не что иное, как полное и настоящее иудейство, или жидовство, с полным отрицанием христианства". Между этими крайностями мнение Панова, который считает ересь жидовствующих непосредственным продолжением стригольничества, случайно испытавшим на себе влияние иудейства.
Для правильного суждения о ереси приходится оценить те источники, которые сообщают нам о ней. Имеются послания новгородского архиепископа Геннадия с отрывочными данными о еретиках; "Известие" митрополита Зосимы о соборе 1490 г. с обличением ереси и приговор этого собора по делу о еретиках; и сочинение Иосифа Волоцкого "Просветитель", целиком посвященное изобличению ереси. Последнее включает в себя 16 слов, изобличающих различные заблуждения еретиков, и в качестве предисловия дает "Сказание о новоявившейся ереси", представляющее из себя очерк ереси, где рассказывается, как ересь возникла в Новгороде, как из Новгорода проникла в Москву, и указываются поименно московские еретики. "Сказание" кончается рассказом о соборе 1490 г., а в 15 слове сообщаются сведения о соборе 1504 г. вставленные в книгу уже после ее выхода в свет.
Ценность двух первых источников не подлежит сомнению: они документально подтверждают существование ереси в Новгороде и дают возможность судить о характере этой ереси. Но к сообщениями "Просветителя" приходится относиться с большой осторожностью. В противоположность Геннадию, который имел лично дело с еретиками в Новгороде, Иосиф до 1503 г. находился в своем монастыре и писал о новгородских еретиках отчасти на основании сообщений Геннадия, отчасти на основании других слухов, которые до него доходили и притом передавал полученные сведения не только без всякой критической проверки, но и добавлял свои объяснения ереси. Именно в то время, как Геннадий, допуская некоторое иудейское влияние, считает, что ересь в Новгороде возникла главным образом под влиянием маркеллианской и массилианской ереси, Иосиф нашел ключ к ереси в слове "жид", и с его легкой руки и пошел неправильный термин "жидовствующие". В изложении идеологии еретиков Иосиф значительно расходится с приговором 1490 г, в котором нет и половины тех "ересей", о которых говорит Иосиф. Далее, московские еретики были политическими противниками Иосифа, т.к. стояли за секуляризацию церковных имуществ; поэтому при характеристике их Иосиф стремится прежде всего очернить их с моральной стороны, но про идеологию еретиков он может только сказать, что они "баснословия некая и звездозаконию учаху и по звездам смотрети и строити рождение и житие человеческое, а писание божественное презирати яко ничтоже суще и непотребно человеком". Поэтому сообщения "Просветителя" никоим образом нельзя класть в основу нашего суждения о ереси. Они могут иметь значение только после поверки другими источниками. Но для характеристики воззрений и методов осифлянской партии – сторонников Иосифа Волоцкого – "Просветитель" имеет, конечно, первостепенную ценность.
Первое, что мы должны отметить, заключается в пестроте социальной базы ереси. В Новгороде это сторонники московской партии, из мелких людей и клирошан; в Москве это, с одной стороны, приближенные князя, с другой стороны, гонимое им боярство. Другими словами, к ереси примыкали и тогдашние "левые", поскольку московский князь проводил политику борьбы с удельным феодализмом и северным городским партикуляризмом, а с другой стороны, и тогдашние "правые", поскольку боярство боролось за сохранение своих земель и привилегий. Противоречивость обычная, сплошь и рядом возникавшая во время переходных эпох. Поэтому мы поймем сущность ереси и ее причудливые извивы только в том случае, если будем постоянно оглядываться на социально-политическую борьбу эпохи и на ее острые моменты.
Появление ереси в Новгороде совпало с ожесточенной борьбой новгородских партий перед вторым походом Ивана III на Новгород. Эта борьба с самого начала была не чужда некоторых религиозных мотивов. Сокрушившая Псков и готовая сокрушить Новгород Москва казалась боярству и его религиозным идеологам антихристовым царством; когда падет Новгород, восторжествует Антихрист, и настанет кончина мира. Это ожидание находило себе поддержку в церковном документе: пасхалия была рассчитана только до 1492 года, который должен был соответствовать 7000 г. от сотворения мира. В одном сборнике 15 в. в конце пасхалии была сделана приписка, в которой говорилось "сие лето на конце явися в оньже чаем всемирное торжество пришествие твое". Такая же приписка повторяется в летописях 15 в. и ею оперируют в поучениях тогдашние иерархи.
Новгородская ересь появляется одновременно с оживлением эсхатологических чаяний. Иосиф приводит со слов Геннадия имена первых новгородских еретиков с обозначением их профессии: из 23 лиц 15 – священники, или крылошане, или сыновья священников, а остальные принадлежали к московской партии, состоявшей главным образом из черных людей, которые ожидали от соединения с Москвой дешевого хлеба. Если вспомнить, что новгородское белое духовенство было в подчинении у боярства и архиепископа, то будут ясны причины московских симпатий церковной части новгородских еретиков. Идеология еретиков также коренится в перипетиях партийной борьбы конца 15 в. и с одной стороны, развивает доктрину стригольников, поскольку последняя критиковала вероучение и обрядность феодальной церкви, с другой стороны, вооружается против эсхатологических ожиданий боярской партии, которые были приемом партийной борьбы, средством воздействия на суеверный черный люд. Доводы еретиков были обставлены таким ученым аппаратом, с которым представителям феодальной церкви, привыкшим к начетническому методу, бороться было трудно. Еретики воспользовались всеми теми источниками культурного просвещения, какие предоставляла широкая новгородская торговля, и не только знали такие библейские книги, как кн. Бытия, Царств, Притчи, Иисуса сына Сирахова, которые не были известны даже архиепископу Геннадию, но имели понятие о таких отцах церкви, как Дионисий Ареопагит, знали логику и познакомились со средневековой иудейской каббалой, астрономией и астрологией.
Москва была для боярской партии в Новгороде царством антихриста. Еретики, как представители московской партии, должны были опровергнуть это воззрение. Им был известен иудейский "Шестокрыл", книга, очень распространенная в то время между книжными людьми из среды городского духовенства; и из этого "Шестокрыла" еретики могли узнать, что по иудейскому счету со времени сотворения мира прошло почти на 750 лет меньше, чем по христианскому; а так как иудейский счет велся по оригиналу, по еврейской библии, а не по александрийскому переводу(в котором хронологические данные расходятся с еврейскими) и так как далее, после окончания библейских времен, иудеи вели счет по прежнему, библейскому способу, а официальная церковь пользовалась языческим юлианским календарем, то еретикам было ясно, какому летоисчислению надо было отдать предпочтение. А раз в 1492 г. будет не 7000, а только 6250 от сотворения мира, то все толки о втором пришествии не имеют под собой основания и Москва ничего антихристова в себе не содержит. Но, начав с критики эсхатологических представлений, еретики пошли дальше. Они перешли к критике новгородской феодальной церкви. По их мнению, эта церковь, которая противополагает себя московскому государству, на самом деле сама полна заблуждений и учит явным несообразностям. Церковь говорит, что надо поклоняться кресту и иконам, как божественным вещам, но "то суть дело рук человеческих, уста имут и глаголят; подобны будут вси надеющияся на ня" – и еретики не только не поклонялись кресту и иконам, но "хулили и ругались им", вырезали из просвир изображения креста и бросали их собакам и кошкам. За критикой иконопоклонничества следовала критика богочеловечества Иисуса Христа. Его еретики считали пророком, подобным Моисею, но не равным богу-отцу, находя, что немыслимо "богу на земле снити и родитися от девы яко человек"; бог един, а не троичен, ибо в рассказе о явлении бога Аврааму у дуба Мамвре ясно говорится, что тут были бог и два ангела, а не три лица троицы. Другими словами, еретики были строгие монотеисты, и отрицали все предметы культа, которые хотя бы косвенно напоминали о политеизме – иконы, мощи, кресты и т.п. Но учение Христа еретики не только не отвергали, но даже совершали евхаристию(обряд причащения), понимая ее, однако, в реформатском духе: хлеб – просто хлеб, вино – просто вино, это только символы, а не подлинные тело и кровь Христовы.
За критикой вероучения шла критика церковной организации. Мы не знаем, как относились еретики к высшей церковной иерархии, но следует предполагать, что они отвергали ее, по крайней мере, Геннадий обличает одного из еретиков, чернеца Захара, который не причащался сам и не причащал других на том основании, что не у кого причащаться, ибо все поставлены на "мзде" – старый стригольнический мотив. После этого можно поверить Иосифу, который уверяет, что еретики считали монашество противным евангельскому и апостольскому учению, ибо ни Иисус, ни апостолы не были монахами, и что даже более того – объясняли происхождение "образа иночества" кознями дьявола: основателю монашества Пахомию являлся вовсе не ангел, а бес в темной одежде, какую носят монахи, а не в светлой, как ангелы. Естественно, что еретики вслед за этим выражали сомнение в существовании загробной жизни и отвергали главную функцию молитвенников – молитвы за умерших: "А что то царствие небесное, а что то второе пришествие, а что то воскресение мертвых? Ничего такого нет, умер ин, то умер, по та место и был..."
Вполне понятно, что новгородские еретики при таких взглядах на феодальную церковь и на монашество легко приобрели "ослабу" и даже покровительство у московского князя. Покончив в 1478 г. с новгородской самостоятельностью, Иван III воочию доказал новгородскому боярству, и князям новгородской церкви, что они были по-своему правы, считая Москву царство антихриста. Главарей ереси, священников Алексея и Дениса, московский князь приблизил к себе и назначил к придворным храмам, а архиепископа Феофила, не желавшего примириться с московской властью, снял с кафедры и заточил в один из московских монастырей. Обезглавив новгородскую церковь, он подорвал и ее экономическую базу, переписав на "московского государя" сначала 10 владычных волостей и половину владений шести богатейших монастырей, а затем, в 1499-1500 гг. еще свыше половины владычных и монастырских имений. Несколько лет спустя он перевез в Москву и владычную казну. Такая же экспроприация постигла и сливки новгородского боярства. Новгородские сеньеры были сломлены; новгородская церковь стала частью московской волости – владыку стал назначать князь по соглашению с митрополитом, и первым делом московских "пастырей" было введение в Новгороде культа московских святых, митрополитов Петра, Алексея и Леонтия Ростовского. Антихрист торжествовал...
Таким образом, противоестественный на первый взгляд союз "благоверного" московского князя с "жидовствующими" еретиками находит себе вполне ясное объяснение: у союзников был один и тот же социальный враг. Но любопытный оборот дело получило в Москве, куда ересь перекинулась после падения Новгорода и где она получила новый вид связи с борьбой московских партий, разгоревшейся вокруг вопроса о монастырских землях.
Еретические священники Алексей и Денис, приставленные к придворным московским церквам, перенесли ересь в среду московского общества, где она, однако, стала распространяться среди лиц иного круга, чем в Новгороде. Душою ее стал великокняжеский дьяк Федор Курицын, который был, по-видимому, просвещенным для своего времени человеком, отличался вольнодумство и любил повторять цитату из апокрифического Лаодикийского послания: "душа самовластна, заграда ей вера". Он устроил у себя салон, где собирались его единомышленники, но среди них мы не встречаем представителей бюргерства. Напротив, в Москве к ереси примкнули представители той общественной группы, которая в Новгороде была ее провинцией – представители старого боярства. Надвигавшаяся угроза конфискации вотчин ставила под вопрос существование бояр. Грозе нужно было дать другое направление и боярство в борьбе за самосохранение решилось пойти на такую жертву, как загробный покой своих предков. Антимонашеская идеология еретиков, которые денно и нощно твердили князю, что не пристало монахам владеть вотчинами, была боярам на руку, и видные их представители примкнули к ереси, заняв даже руководящее положение. В числе главарей ереси называют княгиню Елену, жену сына Ивана III от первого брака, Иоанна Молодого и таких крупных бояр, как князь Иван Юрьевич Патрикеев и Семен Иванович Ряполовский. Конечно, их интересовала не столько идеологическая, сколько практическая борьба, и они провели на престол митрополита Зосиму, который был горячим сторонником секуляризации монастырских владений.
Борьба с еретиками.
Пока ересь была только в Новгороде, ортодоксально-монашеская партия, осифляне, получившие такое название от имени вождя – Иосифа Волоцкого, довольно равнодушно внимала жалобам новгородского архиепископа Геннадия. Но когда ересь появилась в Москве, о ней заговорили во всех московских домах, когда еретики стали поговаривать, что следовало бы созвать собор о вере, осифляне обеспокоились и начали ожесточенную контратаку. Одним из ее проявлений была упомянутая книга "Просветитель". Книга была заполнена изобличениями ереси, почерпнутыми из писания, но, полагая, что на князя такие доказательства не подействуют, Иосиф приводит и другие аргументы. Князя он попробовал запугать угрозой бунта подданных с благословения церкви; он многозначительно говорит, что надо повиноваться царю, но такому, который является подлинным божиим слугой, если же царь имеет "скверные страсти и грехи", то такой царь "не божий слуга но диавол". По адресу еретиков Иосиф не брезгует клеветой и доносом. Он пишет, что еретики "жертвы жидовския жряху, и пасху жидовскую и праздники жидовския творяху". Видимо, эти обвинения оказались сильнее обличений со стороны писания и был назначен сыск о еретиках в Новгороде и Москве и в 1490 г. Зосима был вынужден созвать первый собор на еретиков, которому были преданы сторонники ереси, обнаруженные в Новгороде и Москве. Приговор собора, однако, оказался не столь решителен, как того желали бы противники ереси. Вместо беспощадной казни для них всех, как того требовал Геннадий, они были отлучены от церкви и преданы проклятию. Против ряда видных еретиков применили типично инквизиторскую кару: еретиков посадили задом наперед на лошадей (в Испании сажали на ослов, но в Новгороде ослов не нашлось), надели на головы "бесовские" колпаки с рогами, а на грудь каждому повесили надпись: "се есть сатанино вьинство". После этого их провезли по всему городу, и каждый встречный должен был плевать в проповедников свободы воли – это было наказанием за "гордыню". Затем некоторые были казнены, многие сосланы в отдаленные монастыри. Сходство с действиями святейшей инквизиции не случайно. Геннадий очень лестно отзывался об опыте западноевропейских "коллег" и описанное действие устроил в точности по испанским руководствам по борьбе с ересями.
Но самые главные в глазах осифлян еретики, принадлежавшие к влиятельным московским кругам, не только не были наказаны, но приобрели еще больший авторитет. В том же 1490 г. умер муж Елены Иоанн и боярской партии удалось провести его сына Дмитрия в наследники престола. Поднялся и богословский авторитет еретиков – в 1492 г. пасхалия окончилась, но второго пришествия не последовало. Зосима использовал это в пользу своей партии – опубликовал пасхалию на восьмую тысячу лет и в введении к пасхалии доказывал, что это тысячелетие начинается с новой эпохи: третьего Рима – Москвы и нового царя Константина – великого князя Ивана III.
Видя неудачу легальной борьбы, осифляне прибегли к методу интриг и заговоров, но и тут поначалу их ждал неуспех. Они поддержали вторую жену Иоанна Софью, приверженцы которой составили в 1497 г. заговор на жизнь Дмитрия, но заговор был раскрыт. Вся борьба сосредоточилась при дворе. Осифляне видели, что, пока они не добьются влияния на князя, им нечего мечтать о сохранении своих позиций. Но желанный момент настал: в 1499 г. интрига, которую вела Софья, увенчалась успехом. Князь вернул свое расположение Софье и ее сыну Василию, а вожди старобоярской партии попали в опалу. Ряполовскому отрубили голову, а Патрикеевых постригли в монахи и сослали в заволжские скиты.
Но борьба на этом не окончилась. Напротив, сосланные еретики нашли для себя поддержку, так как эти скиты существенно отличались от остальных монастырей, а "заволжские старцы" были защитниками нестяжательности и ярыми противниками монастырского землевладения. Они были представителями своеобразного течения русского монашества, ставившего перед собой задачу, как и остальное монашество, достичь личного спасения, но шедшего к этой цели другими путями. Основателем заволжского направления был современник Иосифа Волоцкого Нил Сорский. Сам он причислял себя к "поселянам", но в действительности не имел ничего общего с крестьянами: с ранней молодости он жил в Москве и был "скорописцем", то есть переписывал книги. Постригшись в монашество, он ушел на север, в Кирилло-Белозерский монастырь, где была очень строгая дисциплина. Но и этот монастырь был заражен "стяжанием", был крупным торгово-промышленным предприятием. Нил ушел оттуда, совершил путешествие на Афон и изучил тамошние способы спасения души. Его первоначальная профессия сталкивала его с представителями тогда немногочисленной интеллигенции; личный монашеский опыт и поездка на Афон также не прошли даром для его религиозных воззрений. Таким образом, у Нила возникло критическое отношение к тогдашнему типу монашеской жизни и создалось представление о возможности и необходимости иного пути к спасению. Для осуществления своего способа спасения души Нил основал собственный скит на речке Соре в Белозерском районе. Его пример вызвал подражание и рядом со скитом Нила появилось несколько скитов его последователей. Так появились заволжские старцы.
В новом пути ничего оригинального не было; он был скопирован с восточных аскетических систем. Основной исходный пункт – царство зла в мире. Мир во зле лежит; ежедневный опыт показывает "колики скорби и развращения имать мир сей мимоходящий и колика злолютства сотворяет любящим его. Мнящаяся бо его благая - по видимому суть блага, внутрь же исполнена многа зла". Поэтому монахи, живущие в мире, в условиях его повседневной жизни – лжемонахи, и "житие их мерзкое". Душу нельзя спасти теми способами, какие они указывают; стяжания для монаха – "яд смертоносный". Монах, желающий спасти свою душу, должен жить одиноко в своем скиту и питаться трудами своих рук; он может принимать и милостыню от христолюбцев в виде руги от казны или бояр, но только деньгами или натурой. Одинокая жизнь в скиту располагает к внутреннему совершенствованию.Непосредственное изучение священного писания предоставляет достаточный простор индивидуальным склонностям каждого монаха, поэтому Нил никому не преподает обязательных правил, а только дает советы и указания. Удаление от мира, милостыня и аскетические упражнения не являются целью сами по себе, это средства для покорения человеческих страстей. Когда они будут покорены, человек достигнет состояния религиозного экстаза, почувствует себя "в непостижимых вещах, идеже не весть, не зная, в теле он или без тела" и аскетические упражнения станут излишни: человеку, обладающему "внутренней" молитвой, не нужно пение псалмов и чтение молитв; человек не будет нуждаться в посте, "питаясь единым боговидением".
Перед нами мистическая созерцательная система, широко распространенная на востоке в первые века христианства, в эпоху выработки церковной организации, когда совершалась дифференциация среди членов церкви и возрождавшаяся не раз в западной Руси и в Европе в виде мистических сект в эпохи социальных кризисов. Но в условиях конца 15 в. когда жил Нил Сорский, она не имела под собой почвы и была не широким движением, а уделом отдельных экзальтированных и образованных людей – в скитах Нила после его смерти оказалось всего 12 старцев. Если она обратила на себя внимание и приобрела социальную значимость, то это было обусловлено моментом политической борьбы конца 15 и начала 16 века, разгоревшейся вокруг вопроса о церковных имуществах. Этот вопрос, занимавший в сочинениях Нила второстепенное значение, для тогдашних политиков выдвинулся на первый план и заслонил собой основное положение Нила - созерцательность монашеской жизни. Как раньше московская власть в своей борьбе за церковные имущества не побрезговала новгородскими еретиками, так теперь она стала искать содействия у заволжских старцев. И вскоре после собора 1490 г. Нил оказался втянут в московскую политику: в частных секретных совещаниях, устроенных князем по вопросу о праве монастырей и церквей владеть имуществами, он участвовал в качестве видного и приятного для князя авторитета. Осифляне заволновались, их митрополиту Симону пришлось пустить в ход весь запас примеров из Ветхого завета, церковной истории и житий святых, чтобы поколебать позиции противников церковного вотчиновладения. Но уничтожить их не удалось; напротив, князь Василий Патрикеев, принявший в монашестве имя Вассиана и примкнувший в ссылке к ученикам Нила, выпустил три сочинения, направленные против вотчиновладения монастырей и против Иосифа.
Для осифлян стало очевидным, что для сохранения монастырских имуществ недостаточно борьбы только на почве религиозной идеологии. Теорию душеспасительного синодика расшатывали еретики и заволжские старцы, жертвовавшие при этом даже спокойствием душ своих предков, и при явном сочувствии княжеской власти. Было ясно, что даже если все еретики будут переловлены и покараны, все же твердыня синодика окажется поколебленной. Осифляне начинали сознавать, что нужно учесть перемену социально-политической обстановки и вместо угрозы князю бунтами сделать ему политические уступки, в содержании которых не было и тени сомнения: церковь должна была пойти навстречу стремлениям московских царей, санкционировать "самодержавие" московского князя, выраставшее на почве развития денежного хозяйства и в борьбе с удельным партикуляризмом, и поступиться при этом всеми феодальными правами, которые превращали церковь в государство в государстве. Мало того, церковь должна была признать единым главой над собой московского князя, который уже стал открыто выступать в роли главы московской церкви. Если до сих пор власть князя над митрополией выражалась в негласном выборе кандидата на кафедру митрополита, то теперь, при поставлении преемника митрополиту Зосиме, летописцы отметили совершенно необычайный и невиданный дотоле момент посвящения. После формального избрания Симона на соборе епископов 1495 г. по указанию великого князя во время торжественного посвящения нового митрополита великий князь собственноручно "продал его епископам" и повелел ему "принять жезл пастырства и взойти на седалище старейшинства". Это указало осифлянам линию поведения. Не прекращая борьбы с еретиками, осифляне постепенно переносят ее на чисто политическую почву.
Собор 1503 г., созванный официально для разрешения вопроса о вдовых священниках, еще раз показал осифлянам, что медлить с действиями не приходится и что центр тяжести заключается в установлении новых отношений к "державе" московского князя.
Когда вопрос о вдовых священниках был решен, князь неожиданно предложил собору решить вопрос и о монастырских имуществах. Это предложение свалилось как снег на голову осифлянской партии, главный деятель которой, Иосиф, в это время уже уехал с собора. За ним послали вдогоню; он вернулся и сумел защитить имущества, но чувствовалось, что это только отсрочка. Нужно было действовать, и Иосиф сразу же после собора воспользовался болезненным состоянием престарелого князя Ивана III, чтобы окончательно взять его в руки и побудить перед смертью на "душеспасительное" дело – на розыск и казнь еретиков. Этот собор 1503 г. был, в противоположность собору 1490 г, расправой быстрой и жестокой. Дознание происходило излюбленным способом испанской инквизиции: чтобы организовать суд над еретиками, Иосиф Волоцкий предложил начать с арестов "двух-трех еретиков, а оне всех скажют" – под пытками, конечно, люди не выдерживали и оговаривали даже невиновных. Выслушав "многих истинных свидетелей", собор предал еретиков проклятию, а их главарей передал князю для соответствующего наказания. Показательный процесс закончился очередным инквизиторским представлением. На льду Москвы реки в деревянной клетке были сожжены главные представители московского еретического кружка - Ивана Волков, брат Федора Курицына, зять протопопа Алексея, Иван Максимов, и юрьевский архимандрит Кассиан. Остальные еретики были разосланы по монастырям под надзор игуменов.
На руку осифлянам заволжские старцы стали возражать против этих жестокостей, ссылаясь на евангельский рассказ о прощении Иисусом грешников и на заповедь "не судите, и да не судимы будете". Иосиф возражал, что "еретика руками убити или молитвою едино есть" и что рука, наносящая язву еретику, "тем самым освящается". А когда язвительный Вассиан предложил Иосифу самому показать пример и сотворить молитву, чтобы земля покарала недостойных еретиков и грешников, Иосиф не выдержал. Он заявил, что заволжских старцев научили еретики, внушив им мысль о необходимости пощады еретикам; после этого Иосиф излагает целую инквизиционную теорию сотрудничества светской и духовной власти в деле преследования ереси. Церковь только разыскивает еретиков, пользуясь "богопремудростным художеством и богонаученным коварством", т.е. прибегая к приемам сыска и пыткам; когда еретики будут открыты, церковь может их убить либо одним словом, либо через посредство гражданской власти, которая предает их надлежащей казни. Эта полемика, во-первых, дала осифлянам возможность заподозрить в ереси и неугодных им заволжских старцев, и, во-вторых, сближала их с великокняжеской властью на поприще борьбы с крамолой. Таким образом, осифляне предлагали княжеской власти свои инквизиционные услуги и подчеркивали, что враги князя одновременно являются и врагами церкви.
Так с робким началом развития свободомыслия на Руси было покончено. Одиночек-еретиков продолжали жечь и дальше, но особенно активно в этом отношении союз церкви и государства преуспел во второй половине XVII века, когда ему пришлось иметь дело со старообрядчеством. Справедливости ради надо отметить, что в это союзе церковь навсегда заняла подчиненное, а после Петра – так просто рабское положение, в которое она сама приводила и продолжает приводить русское общество с конца XV века до наших дней.
Список использованной литературы:
1. Никольский Н.М. История русской церкви. М.: Политиздат, 1985
2. Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси/ XIV - XVI вв. – Новосибирск: Наука, 1991.
3. Клибанов А.И. Реформационное движение в России в XIV- первой половине XV в. – М.: АН СССР, 1960
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.